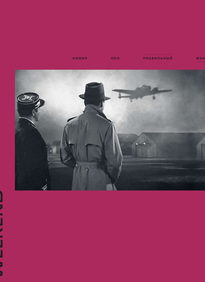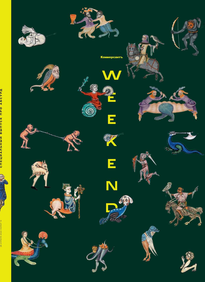В этом году мир отмечает сразу две даты, связанные с Джейн Остен: 220-летие ее главного романа "Гордость и предубеждение" и два века со дня ее смерти. В связи с этим в англоязычной прессе возобновилась дискуссия о том, кто же все-таки "придумал" английский роман — Джейн Остен или Чарльз Диккенс. Свой ответ на этот вопрос дала Екатерина Шульман, а Мария Бессмертная выяснила, что говорят о писательнице ее коллеги
Есть авторы, которые делают вроде бы жанрово и стилистически то же, что все их современники, а выходит, как говорила Наташа Ростова, "совсем другое, высшее". Чтобы понять ту особую странность, которая их отличает, полезно сравнить их с историческим фоном. По прочтении сборников типа "Писатели чеховской поры" понимаешь, в чем разница между Чеховым и бесчисленными сочинителями рассказов про дачных барынь, мелких чиновников и жалостных городских детей. Все голландцы писали интерьерные сцены, музицирующих девиц и пол в клеточку, но только у Вермеера освещение, как от низкого солнца, и особая тишина придают этим невинным жанровым картинкам нечто смутно-апокалиптическое. Много было в русском XVIII веке парадных и семейных портретов, но у одного Рокотова они переливаются таким мистическим перламутром. Джейн Остен пишет истории, по выражению недоброжелательного критика, "о том, как еще одна хорошая девушка вышла замуж". По-настоящему понять ее отличие от современной литературы на ту же тему можно, только прочитав Ричардсона и Фанни Берни — не потому, что те "пишут плохо". А потому, что они принадлежат эпохе, а Остен, как сказал Бен Джонсон о Шекспире, "всем временам".
Структурно ее учителями были драматурги-комедиографы, такие как Шеридан, стилистически — историк Гиббон и поэт Поуп. У них она заимствовала эпиграмматическую манеру и склонность к противопоставлениям (their tempers were mild, but their principles were steady). Часто ее периоды и фразы звучат стихотворным ритмом: he has caught both substance and shadow, both fortune and affection.
Ее рабочий вокабуляр сознательно ограничен: не только сам набор слов относительно невелик, она еще и избегает пейзажей и портретов. Невиданное дело — наружность персонажей описана в самом общем виде, никаких льняных локонов и легких станов, небесного румянца и пламенного взора — хотя, судя по письмам, представляла она себе их очень подробно и выразительно и отыскивала на выставках подходящие изображения (как мы читаем в письмах, г-жа Бингли нашлась легко, а вот портрет г-жи Дарси, вероятно, муж не разрешает выставлять из "смеси любви, гордыни и застенчивости").
Эта лексическая сдержанность приводит, среди прочего, к тому, что Остен так же страдает в переводе, как Пушкин. Их прозаический стиль — прозрачность и ирония, экономия средств и нежная игра с клише и читательскими ожиданиями — вообще довольно схож. В переводе от него остается набор бледных галлицизмов, от нее — сухие косточки сюжета.
Непосредственное развитие английской литературы пошло не за ней, как литература русская наследовала не прозе Пушкина, а "натуральной школе" (к которой в те времена относили и Гоголя — экая тогда была натуральность). Так, Диккенс куда больше обязан не ей, а тем, кого она пародировала в "Нортенгерском аббатстве" — Анне Радклиф с сестрами, при поддержке вальтер-скоттова романтического историзма введшими в моду мистицизм, готичность, фамильные проклятья, скелеты в сундуках и "голубых героинь", будущих викторианских прозрачных ангелов обоего полу. Но если Ричардсона сейчас не читает никто, то Остен читают все: вероятно, больше, чем Диккенса, и уж точно больше, чем Байрона.
Когда Джейн Остен начинала писать — не для печати, а для своей прекрасной, образованной, веселой и понимающей семьи (какую дай бог всем нам и детям нашим), то это было в совсем иной манере, чем ее предназначенные для публикации вещи. Эпистолярный роман "Леди Сьюзан" (из которого недавно сделали фильм "Любовь и дружба" — название принадлежит другому ее юношескому бурлеску, еще более смешному и свирепому) мастерски использует традиционную жанровую форму романа в письмах с тем вывертом, который в ХХ веке назовут "недостоверный рассказчик": главный герой врет одним своим корреспондентам, а другим вроде как говорит правду, но не совсем. Кто еще так делал? Частично Ричардсон в "Клариссе", этой бесконечно долгой повести об изнасиловании, но еще искусней — де Лакло в "Опасных связях". Не оставляет мысль, что автор "Леди Сьюзан" обязательно должна была читать "Опасные связи" — но где она могла раздобыть эту непристойную книгу? Неужели Элиза де Фейд завезла — Элиза, шаловливая кузина, жена казненного на гильотине и сама предполагаемый прототип веселой вдовы леди Сьюзан Вернон?
Дело не в том, что для себя Остен писала как-то лучше или "искреннее", чем для печати: как всякий развивающийся талант, она совершенствовала свое искусство, и публичность не ограничивала, а стимулировала ее. Но в трех томах "Ювенилии" читается другая эпоха: гораздо более жестокий и абсурдный юмор, куда меньше уступок общественной чувствительности и весьма смелые игры с общественной моралью.
Как вообще чувствовали себя люди, сформировавшиеся в культуре Просвещения, на ясном солнце XVIII века, когда их вольные нравы начала подъедать эпоха, которую позже назовут викторианской — хотя принцесса Александрина Виктория еще не родилась, и дело касалось всей Европы, а не только (и не особенно) Англии? Вслед за Французской революцией, наполеоновскими войнами и победой национальных монархий над идеологизированным глобалистским французским проектом наступило время, которое мы нынче нежно именуем эпохой романтизма: религиозность и мистицизм, мода на все этническое, нечто и туманна даль, пишем темно и вяло, плачем и молимся. Герои все менее и менее психически стабильны, героини все воздушней, у Юлии и Клариссы еще формы и здоровый румянец, а Валери из одноименного романа (откуда де Линар, один из героев-любовников из списка Татьяны) уже с истерическими припадками, а Антония из "Жана Сбогара" и вовсе чахоточная.
Среди британской музы небылиц, тревожащих сон русских отроковиц, романов Остен не было: на французский ее не переводили, и, следовательно, в руки уездных барышень она не попала. Подумать, что Татьяна Ларина могла бы читать "Гордость и предубеждение", а не Ричардсона и Руссо, двух неимоверно влиятельных мужских авторов, равно чуждых как художественной дисциплине, так и здравому смыслу!
Любая из героинь Остен — куда более здоровая role model, чем Кларисса, Юлия и Дельфина, вместе взятые. У нее и leading ladies — объемные индивидуальности, и даже такое клише на ножках, как латентно чахоточная бесприданница-сирота, тайно влюбленная в богатого наследника,— Джейн Фэйрфэкс из "Эммы" — вполне реалистическая личность: скрытная, тревожная, ревнивая и вообще абсолютный контрол-фрик с периодическими нервными срывами (каковой, если задуматься, и должна быть в реальной жизни зависимая бедная девушка с амбициями и некоторыми скелетами в шкафу).
Из всех ее романов максимально приближенный к эстетике нового века — тот, который Набоков выбрал для своего курса лекций "Европейские шедевры", одно из самых совершенных и наименее популярных ее произведений — "Мэнсфилд-парк". Там имеется и героиня-золушка, и бессердечные богатые родственники, и комбинированная диккенсовски-достоевская семья в портовом городе: пьющий папа, стены в жирных пятнах, хоровод лишних ртов и даже этот сакральный викторианский персонаж — Маленькая Мертвая Девочка, которая умерла, но оставила в наследство карманный ножичек. В этом же романе представлен первый — и последний — остеновский священник, серьезно относящийся к своему призванию (все остальные священники у нее — комические персонажи, а единственный положительный, Генри Тилни из "Нортенгерского аббатства", ничего специфически-религиозного не говорит и не делает). "Мэнсфилд-парк" — это прекрасная зрелая Остен, но трудно любить Фанни Прайс, полуживого подкидыша, тайно ненавидящего своих благодетелей, чье счастье приходит тогда, когда все здоровые и шумные, красивые и веселые опозорены, изгнаны или заболели, и тут-то на руинах приютившей ее семьи эта змейка-коротенькая шейка свивает свое гнездо с давно присмотренным кузеном. Чтобы сделать такого хилого упырька предметом читательского сочувствия, надо или вовремя его уморить, как делали Диккенс и Достоевский, или придать здоровую дозу агрессии, на что решилась Шарлотта Бронте.
У нашего же автора настроение тогда было мрачное, переезд в новый дом вызвал едва ли не депрессию, в одном из писем она говорила, что "не уверена, а не должны ли мы все последовать евангелизму". К счастью, по этому творческому пути она не пошла. Следующий роман уже представляет нам прелестного мистера Дарси в юбке — богатого, начитанного и самоуверенного аспергера, любителя "слов из четырех слогов", живущего не в мире собственных иллюзий — это бы полбеды,— а в мире собственных безупречных логических построений, пока добрая реальность в гендерном своем аспекте не даст ему (ей) по лбу — но любя.
Этот роман она, после деликатного намека, переданного через королевского библиотекаря, посвятила принцу-регенту, поклоннику ее творчества, а от него получила пожелание написать "исторический роман, описывающий царствующую Саксен-Кобургскую династию" — совет такой же умный, как рекомендация другого венценосного литературоведа переделать Бориса Годунова в "роман в духе Вальтер-Скотта". Пушкин в ответ просто промолчал, а Остен написала библиотекарю очень смешное письмо, в котором обещает повеситься после первой же главы саги о добродетелях Саксов и Кобургов. Разницу при желании можно отнести на счет различий в политической культуре — или, что реалистичней, в индивидуальных темпераментах.
Let other pens dwell on guilt and misery,— пишет Остен в финале "Мэнсфилд-парка": пусть о вине и несчастии пишут иные перья. Таковых в новом веке нашлось в избытке: "Беда и Грех" звучит как идеальный заголовок почти любого романа XIX века — и Диккенса, и Достоевского, и Бальзака. Да, непосредственных наследников у ее глубины, смелости и стройности не оказалось: наступившая эпоха предпочла все более рыхлое, размашистое и сопливое. Но после того как Остен революционизировала прозаическое повествование, создав на месте бесформенного романа в письмах, пикарески, слабо связанных между собой приключений перипатетического героя тот роман, который стал главным жанром двух последующих веков, возврата к нарративным стандартам предыдущей эпохи уже не было — всем пришлось прыгать как-то по-новому. Вот так бывает: авторы пишут свои готические или эпистолярные романы, публика все это читает в порядке вещей, томы на томы громоздятся — а потом является провинциальная барышня без особого образования и оказывается на две головы выше всей современной ей словесности, и Филдинг и Ричардсон ей предшественники, а Вальтер Скотт рядом с ней — детская литература.
В "остенической" литературе много рассуждений на тему о ее удавшейся или неудавшейся личной жизни, о женихах реальных и воображаемых. У нее не было детей — она стала матерью драконов — прекрасных чудовищ с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз. Она породила современный роман, как мы его понимаем.
Уже совсем перед смертью она взялась сочинять сатирическую поэму про святого Свитина Винчестерского, на праздник которого 15 июля если пойдет дождь, то будет идти еще 40 дней (вкратце, это святой сердится, что его похоронили не в том месте, где он завещал). Она уже не могла писать, и сестра Кассандра записала под ее диктовку: When once we are buried you think we are dead, but behold me immortal! Хотя рифмуется с последующей строчкой явно dead, мертвы, Кассандра записала gone, ушли.