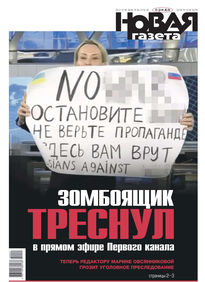Озлобленность или, наоборот, отчаяние и растерянность, с которыми все мы столкнулись после начала войны на Украине, ставят нас перед проблемой добра и зла. Понятия эти вроде банальные, известные каждому с детского сада, но всякий раз, когда добро становится неотличимым от зла, непонятно, а с чем, собственно, мы имеем дело. Это мы творим добро и зло или добро и зло творят нас? Это абсолютные истины или субъективные оценки, наподобие суеверий? Меняются ли понятия добра и зла со временем, участвуют ли они в нравственном и духовном прогрессе человечества? Все это хотелось бы обсудить именно сейчас, когда каждому в нашем детском саду истории придется определиться с терминологией, понять, на чьей он стороне. Мы поговорили об этом с богословом, писателем, специалистом в области христианской философии, проповедником, дьяконом Андреем Кураевым.
— Отец Андрей, вы наблюдаете за тем, что происходит сегодня с Россией и миром. Можете передать свое ощущение от новостей?
— Мне горько потому, что возраст у меня такой, что я не уверен, что переживу нынешний консенсус. Что увижу Россию, которая иначе понимает себя и свое место в мире. Пока что я вижу реализацию худшего сценария. Потому что в девяностые годы мир был реально многополярным, что бы там ни говорил по этому поводу наш президент. Да, был очевидный полюс — США. Но были и два других полюса, которые набирали силу, — Китай и Исламский мир. Для России это был важный выбор — к кому присоединиться.
Совершенно понятно, что культурно и исторически нам ближе всего мир Запада. Мир Европы. Казалось, что мы, пусть и зигзагами, но туда и идем, в чем-то запаздывая, ну, скажем, на тридцать лет. Но это было не так уж и страшно. Была и другая перспектива, учитывая немалую роль традиционных исламских народов в России, а потом еще и наплыв мигрантов — может быть, мы станем Московским халифатом, частью Исламского мира, который, кстати, говоря, разнообразен, — это мир от афганских талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) до шейхов Персидского залива, учившихся в Оксфорде. Ну и третий вариант — стать колонией Китая, превратиться в Московский обком КПК.
Я думаю, что реально Путин избрал именно этот вариант. Потому что, отрезав сегодня все контакты с Западным миром — и нравственные, и экономические и финансовые, — он оставляет для себя единственную возможность сотрудничества и торговли с Китаем. Китайцы — очень жесткие переговорщики, особенно когда они понимают, что нужны и альтернативы им нет. Так что выгодой для России интеграция в китайскую экономику и политику точно не обернется. Мы здесь будем пристяжными, Китай же в этом союзе будет лидером.
Все помнят эту недавнюю замечательную фотографию Путина в Пекине на открытии Олимпиады: такой одинокий человек, мерзнущий на трибуне. Вот это и есть картинка будущего Путинской России в составе Китайского глобуса.
И это только часть сложностей, которые нас ждут. Дальше — новые тридцатые годы. Напомню их логику. Встанем, что называется, по-марксистски по ту сторону добра и зла. Попробуем понять логику Сталина, а не просто честить его людоедом. Ее отправной точкой стала «большая военная тревога 1927 года». К этому году троцкистский Коминтерн довел до красного каления англичан, да и всех остальных своими постоянными революционными выходками и финансированием всевозможных протестных акций, забастовок и терактов ради приближения мировой революции. Появился реальный риск создания Европейской коалиции против Советской России. В Кремле, осознав такую перспективу, задумались: а готовы ли мы к этому? Что, если реально завтра война?
Проведя инвентаризацию, они поняли, что Красная армия сильна лишь тачанками. Танков нет, самолетов нет, нет тыла, нет заводов, нет вообще промышленности. Тогда было принято решение все делать самим. НЭП сворачивается. В Германии и США закупаются инженеры, станки, заводы, образцы военной техники, включая то, что позже станет основой Т-34 — двигатель от Bosch, подвеска от Джона Кристи. У нас в школах сегодня не рассказывают, что Днепрогэс, например, проектировал американский инженер Купер, который стал первым иностранным гражданином, награжденным орденом Трудового Красного Знамени.
Но чтобы все это позволить себе, нужны были деньги, валюта. Валютой тогда было зерно. И чтобы это зерно изъять у крестьян, началась коллективизация. Ею не все были довольны, поэтому перешли к репрессиям. Сегодня я вижу то же самое.
В голове Путина мы стоим на пороге глобальной войны. У нас опять большая военная тревога. Нам нужно модернизировать производство, армию, не говоря уже о таких мелочах, как содержание разоренного Донбасса, поддержка Абхазии, Осетии, Приднестровья. Плюс безмерный «чеченский выход». Где взять ему деньги?
Уже есть формула «народ — вторая нефть». Уже началось выкачивание денег из людей. Через инфляционную раскрутку, повышение штрафов, акцизов и налогов. Впереди — конфискация банковских вкладов. Народ будет роптать, но мы же на войне, мы в осажденном лагере. Те, кто против, — предатели и враги. Для них у родины есть только одно средство — «перевоспитание», то есть репрессии. Все логично. Но только для того, кто желает «по своему, пусть и глупому, уму пожить», места в этой логически выстроенной системе нет.
— Давайте тогда вернемся с той стороны добра и зла на эту. Есть у вас собственный опыт понимания этих категорий? Как рано вы вообще задумались о месте добра и зла в этом мире?
— Понятно, что представления о добре и зле вкладываются еще во младенчиков. Я помню, когда мы с отцом ходили в кино, мой первый вопрос был: «Папа, где тут наши?» Естественно, симпатии мои всегда были на стороне красных «неуловимых мстителей», ведь нас еще в детском саду готовили к 100-летнему юбилею дедушки Ленина. Но потом, лет в одиннадцать, я помню собственное удивление, когда родители уехали вместе со мной в Прагу и я был в шоке, потому что почувствовал, что не тоскую по нашим березкам, что не тянет меня назад к Отчизне (только что были со слезами просмотрены «Семнадцать мгновений весны» с песней, нормализующей тягу к далекой Родине). И вот это отсутствие ностальгии по блочно-панельной родине очень смущало воспитанного во мне внутреннего пионера, который носил красный галстук поверх пальто.
Все советское во мне было. Но, видимо, все советское включало в себя и все антисоветское. В нашем доме постоянно крутились записи Высоцкого и Галича, которые приносил знакомый капитан КГБ. Радио было настроено на чуждые голоса. Когда мы оказались в Праге (в 1973 году, когда чехи нескрываемо болезненно переживали недавнее вторжение), отец мой работал не в посольстве, не в торгпредстве, а в журнале «Проблемы мира и социализма», журнале компартий всего мира, по сути дела, в гнезде будущей советской перестройки. Мы жили не в посольском городке, а в обычном доме. Напротив нас жила семья беженца — члена Исполкома арафатовской Организации освобождения Палестины. Рядом — коммунисты из Латинской Америки, которые не могли вернуться на родину, захваченную черными полковниками. Над нами жила коммунистка из Швеции. И это были очень разные «коммунизмы». У меня до сих пор есть коллекция монет экзотических стран, которые я у всех тогда выцыганивал. Интернационализм был даже в том, что в первый раз я целовался с девочкой из Венгрии в румынском лагере типа «Артека».
Я говорю об этом к тому, что вложенная школой амальгама, в которой отлиты нормы добра и зла, со временем имеет свойство расслаиваться. С новыми опытами и встречами многое школьно-очевидное воспринимается иначе.
Опыт понимания этого феномена я получил позже, учась на философском факультете МГУ. Там были очень хорошие преподаватели истории философии. Спецкурс по Хайдеггеру нам читал Александр Львович Доброхотов. Помню, как он сказал нам задумчиво и без рисовки: «Знаете, в молодости Хайдеггер был марксистом, но потом вовремя одумался».
Я тоже любил Маркса, любил и до сих пор люблю как публициста, как свидетеля своего времени. Я даже не понимаю, почему современные культурологи забыли Маркса, зря это они. Он довольно интересно разбирает эпоху Луи Бонапарта, события современной ему английской жизни и даже Крымскую войну. Это хорошая публицистика. Но я понял это, лишь когда крестился, когда Маркс для меня был сведен со своего пьедестала «классика», когда он перестал быть тем, кто диктует и понуждает.
Маркс прекрасен как экономист и социолог масс. Но его антропология (психология) крайне скудна. С его терминологией нельзя изучать «внутренний мир человека». Тут нужен другой язык. И другая система ценностей, которая позволила бы ценить индивидуальную свободу: «Самостоянье человека, залог величия его». В русской литературной классике, в русской религиозной философии и, в конце концов, в Евангелии я для себя это и нашел.
— Ваше обращение к вере было вызвано именно неоднозначностью картины добра и зла, способом понять, почему она меняется?
— Обращение к вере какой-то ценностной перемены во мне не произвело. Гуманистическая система ценностей, которая долго прорастала от Евангелия через века и века, через толщи народных культур, была мне близка и до моего обращения в 1982 году. Я просто с радостью узнал и принял корни этой системы. Тогда, сорок лет назад, мне казалось: да, существуют ясные критерии добра и зла. Но сегодня я понимаю, что любой текст, любой манифест, любой символ веры беззащитен перед своими юзерами-толкователями. Возьмите хоть декларацию прав человека, хоть Нагорную проповедь, хоть десять заповедей. Если кто-то берется их интерпретировать, то он всегда найдет способ обратить Вечное к своей сиюминутной и корыстной пользе.
Даже «возлюби ближнего твоего» мгновенно превращается в боеголовку. Достаточно спросить: «А кто мой ближний?» Или: «А что значит «любить»?» Или: «А что в ближнем действительно достойно любви?»
Может, любви достойна только вечная душа ближнего, которую надо поскорее освободить от дурного влияния вот этого греховно-еретического тела?
— Текст наверняка беззащитен. Но сами по себе добро и зло могут ли быть во власти человека?
— Знаете, философ и богослов наверняка ответил бы вам: да, в мире идей, где-то у Бога, наверняка хранится эталон добра и зла. Иудеи и мусульмане верят, что на Небе есть идеально-нормативный свиток Закона или Корана. Есть даже версия, что Бог творил мир, заглядывая в Тору. Вопрос в том, через какие таможни, то есть, по сути, мытарства проходит этот Вечный Свет в подлунный мир, в мир людей. Как он проецируется в нашу здешнюю социокультурную ткань. А доходит — через посредничество людей. Так не подложит ли по пути какой-нибудь Негоро свой топор под этот ниспосланный с Неба компас?
У православных, католиков и армян считается, что качество интерпретации Евангелия гарантируется наличием организации и иерархии толкователей — церкви с ее духовенством, «церковь учащая». С этим можно согласиться, когда речь идет о собственно богословских вопросах, отрешенных от земных интересов. Но попытки вынести чистый эталон из палаты мер и весов немедленно приводят к его загрязнению.
Лично у меня не было иллюзий насчет «учительства церкви» даже во время моего неофитства. Я учился в университете на кафедре научного атеизма, у которой была собственная библиотека в отдельной комнате номер 1003. Железная решетка перекрывала доступ к конфискованной библиотеке Оптиной пустыни. Но студентам кафедры можно было приходить и пользоваться ей. И там же был журнал Московской патриархии, который кафедра получала через Совет по делам религий. И мне было понятно, что официальная часть «Журнала Московской патриархии» — это газета «Правда», набранная церковно-славянским шрифтом. Так что ни до своего крещения, ни после я не имел оснований считать, будто во главе церкви стоят светочи разума, совести, мужества, настоящие исповедники.
Но ведь зерно бросают в грязь, в землю. Светильник ставят на подоконник. Поэтому к церкви тогда у меня был запрос гораздо более скромный, чем сейчас. Я рассуждал: текст молитвы «Отче наш» не меняют — и на том спасибо. Можно спокойно прийти в храм и помолиться, как при царе-батюшке, а проповедь за советскую власть переждать во дворе. И на исповеди тебя не спрашивают — слушаешь ли ты «Голос Америки». Мало ли кто брешет «октябрьским богословием», это их проблемы и их грех, а меня никто не обязывает с этим соглашаться.
Поэтому мне казалось, что в церкви угрозы свободе совести нет. Ее нет и сегодня, если не быть профессиональным православным, а оставаться прихожанином-захожанином. Просто брать меру, уместную для тебя.
Это вообще мой совет, как относиться к церкви сегодня. Не понуждайте себя брать себе патриарха в качестве политического советника. Не подчиняйте свою совесть церковной номенклатуре.
Сегодня же я стал более чувствителен к таким вопросам. Та церковь моей юности жила в несвободном обществе. А сегодняшняя? С невольника спрос иной, чем с добровольца.
— То есть мы говорим о том, что где-то там, средь высших смыслов, существуют идеальные добро и зло, но здесь, среди нас, они — динамическая картина, которая зависит от интерпретаций. И человек выступает здесь как бы сотворцом добра и зла. Правильно я понимаю?
— Я, наверное, не смогу однозначно ответить, действительно ли в истории человечества произошел нравственный прогресс. Скажу как христианин. Вот в какую минуту истории еврейского народа в нем рождается Христос? У христианских историософов есть два варианта. Первый: «Не здоровые имеют нужду во враче, а больные» — значит, Спаситель является в момент максимального упадка и духовной деградации. Второй противоположен: Дева Мария — это Цветок, который был подготовлен тысячелетиями культивации Божественным садовником, который возделывал сад Иудеи, дабы в нем созрел наконец плод, способный сделать плотью Слово Бога. То есть появление Иисуса — это минута высочайшего взлета культуры Израиля. Два ответа, оба имеют и аргументы, и право на существование, но противоположны друг другу по сути.
Ну хорошо, отсчитаем от этой точки две тысячи лет. Стали мы лучше или нет? В Евангелии есть рассказ про то, как однажды фарисеи привели грешницу ко Христу и тот сказал: кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень. И разошлись нехорошие фарисеи, вняли голосу совести и разума.
Но если бы сегодня Путин вывел Чубайса на Красную площадь и сказал: вот вам, делайте что хотите, думаю, в дело пошла бы брусчатка.
Но можно приметить и иное. В начале пятого века жил известный всем нам Иоанн Златоуст, патриарх Константинополя. Его судили. Одно из обвинений было таким: он жестоко обошелся с неким дьяконом, которого он отстранил от службы и оставил без средств к пропитанию. На суде Златоуст поясняет: этот дьякон жестоко обращался со своим мальчиком-рабом. Я, конечно, всецело на стороне Златоуста, но я ставлю вопрос: представьте себе, если бы сегодня «Московский комсомолец» написал, что некий дьякон Андрей Кураев жестоко обращается со своим мальчиком-рабом… Сегодня это уже из мира немыслимого не только для святых.
В веках, несомненно, меняется чувствительность людей и общества к тем или иным привычностям или девиациям. Скажем, лет триста назад расизм не считался злом. Антисемитизм не считался грехом. Рабовладение и работорговля не были нравственной проблемой. Семейное насилие не осуждалось, а рекомендовалось. И напротив: те ценности, которые старательно насаждались в те века, как-то стали неактуальны. Скажем, конфессиональная самоидентификация. Многие каноны Византийской церкви запрещали дружить и обедать с евреями или армянами. А теперь наши патриархи спокойно это делают, участвуют в совместных трапезах и даже молитвах, хотя сохраняются все те же самые богослужебные книги с проклятиями. Мать-одиночка, развод и второй брак перестали казаться «греховной мерзостью».
— Но в нынешней конкретной ситуации смятения и жестокости, возможно ли понять, что именно — добро, а что — зло? Как определить хотя бы и для самого себя — на какой ты стороне?
— Есть простой способ, сформулированный еще в Библии. Это вообще золотое правило этики. Представь, что твой проект, совет или мечту используют против тебя же. Поставь себя на место жертвы исторического прогресса. Это и есть «нравственный императив» Канта. Представь, что планируемый тобой поступок станет всеобщим законом вселенной. И ты и твои дети тоже будут ему подчинены… Ты еще хочешь этого?
— Наверняка в Библии, как и в Евангелии, есть и другие мудрые мысли, но почему, как вам кажется, о них молчит церковь? Во всей этой зловещей тишине и среди звуков бомбежки она могла бы возвысить свой голос и, простите за банальность, обозначить нравственные ориентиры.
— Прежде всего потому, что те, кто мнит себя голосом церкви, тысячью нитей связаны с нынешней социополитической элитой. Они смотрят на мир глазами этих элит, т.е. своего класса. И все, что может сказать эта элита, мы видели на Совете безопасности несколько дней назад. Принимается историческое решение, во многом хоронящее будущее России. Самое время устроить мозговой штурм, но мы видим, что они не только перед телекамерами отказываются от дискуссии, но и ранее всерьез это между собой и с первым лицом не обсуждали. Глава СВР Нарышкин вообще не понял, какой вопрос обсуждают — признание суверенитета восточно-украинских республик или, напротив, принятие их в состав РФ.
— Но вы видите какой-либо шанс, что эта система способна на что-то другое, кроме подобострастия и молчания? Она способна все еще различать добро и зло?
— Система неспособна, но Бог способен. Иногда вдруг появляются странные люди. Скажем, 14 июня 1982 года завершилась Фолклендская война. На торжественной благодарственной службе в лондонском соборе Святого Павла присутствовали королева Елизавета, Маргарет Тэтчер, военные чины, вдовы погибших солдат. Архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси — бывший танкист Второй мировой.
И вдруг вместо торжествующего победоносного спича он призвал к примирению, прощению и молитве за погибших аргентинских солдат наравне с погибшими британцами.
«Война — это признак человеческой ошибки, и все, что мы скажем и сделаем на этом богослужении, должно быть помещено именно в этот контекст», — сказал предстоятель Церкви Англии. «Босс в абсолютном бешенстве», — сказал военным муж Маргарет Тэтчер после службы.
Что касается нас, то, может быть, лет через 20 христиански мыслящие публицисты так и будут говорить: Господь через беду и позор привел нас к новому очищению. Может быть, они скажут, что поражение — лучший учитель. Эти мысли очевидны, но все равно поражение лучше не зазывать и не предсказывать. Пророчествовать лучше о прошлом.
А сегодня мы ничего не знаем о том, чем все это кончится. И можем даже не узнать о том, что это уже кончилось и кончилось плохо именно для нас.
Комментаторы могут и после поражения уверять страну, что она всех победила. А поражения объяснять происками врагов и предателей. Так что поражения и мудрость не всегда идут вместе. А победа — тем паче.
Рецептов спасения России и человечества у меня нет и быть не может. Но для каждого отдельного человека возможен свой собственный путь. И если этот человек желает ориентироваться в вечных ценностях, то мои советы ему будут банальны. Мы вообще пришли в то состояние, когда надо говорить банальности. Не завидуй. Не кради. И дальше по Исаичу: Живи не по лжи. Не верь (обещаниям). Не бойся (угроз). Не проси (поблажек).