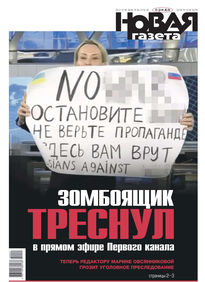Шевчук не хотел давать интервью. Он от них устал, они отнимают время у музыки, они не несут объема. И они — о политике.
Полчаса до парижского концерта, он ходит по узкому коридору, ведущему к гримерке старого театра, напевает свежий мотив. «Я сейчас заканчиваю тур по Европе — строчки почему-то не идут, а мелодии рождаются. Вышел на балкон — курить в гостинице нельзя, на балконе тоже нельзя, — закурил, кофеек, вдали — ржавый фаллос Эйфелевой башни, жизнерадостные туристы, полицейские и террористы нежатся на солнце, весна… и вдруг мелодия какая-то удивительная».
«А интервью — что интервью — мало толку, сейчас говорят все, и большинство друг друга не слышат. А погружение человека в музыку помогает восприятию слова, тем более что песни, надеюсь, более выверены, ведь над ними месяцами работаешь».
Напевает свежий мотив. Но вообще выглядит немного уставшим. Тринадцатый концерт тура. А тут еще этот разговор, во время которого известно же о чем спросят:
— Я думал, что я сойду с ума от этой трагедии: Россия—Украина. Беда. Я пытаюсь что-то делать, но наблюдать общую беспомощность мира перед выходом на эту новую «историческую арену»… тоска. И эти свинцовые шторы пока не раздвинуть… Поэтому я перестал «искрить интеллектом». Я понял, что должен все это пережить, перелопатить в душе своей и найти какие-то ответы на проклятые вопросы. Наверное, в 14-м и 15-м годах художник — если я им являюсь — победил во мне оратора.
— Может, пойдем уже? — вступает музыкант Артем Мамай.
— Думаешь?
— Люди собрались.
Шевчук встает:
— Скажу главное, чтобы потом не забыть. Всех пленных на всех пленных надо менять. И как можно скорее. Вот это действительно будет шаг в сторону мира… Забить на амбиции… Савченко отпустить, Александрова и Ерофеева… Всех.
* * *
Программа «Акустика», на сцене трое: Юрий Шевчук, Алексей Федичев — гитара, Артем Мамай — любые другие инструменты. Полуквартирник-полуконцерт. Стихи и песни.
— Мы акустику играем, потому что мне кажется, что сейчас необходим этот уровень беседы, — объясняет Шевчук после концерта в гримерке. — Мне рок, вернее рев этот, разонравился. Нет, конечно, иногда нужны какие-то энергетические вспышки, мы без этого не можем, но рок уже не та музыка, которая адекватна нашему времени. Сейчас нужен Жак Брель, Ne me quitte pas.
Посыл такой: музыка должна помочь нам успокоиться и обрести потерянную нормальность.
— Время сейчас крутейшее, — продолжает Шевчук. — Я об этом написал несколько песен, но не понимаю, как их стилистически объединить. Наверное, это говорит о том, что время больше нас самих. Оно кипит в нас. Оно настоящее. Ты сейчас можешь за секунду стать героем или подонком. Можешь очутиться в любом положении. Величие нашего времени в том, что вопросы, которые оно задает, — смертельны.
На сцене — старая песня про то, как начинало вызревать тесто того времени, которое сейчас выходит из берегов:
После о случившемся долго будут врать. / Расскажет ли комиссия, как трудно умирать. / Кто из нас ровесники, кто герой, кто чмо. / Капитан Колесников пишет нам письмо.
И еще одна, новая:
— Песня называется «Реальность», — говорит Шевчук зрителям. — Реальность. Реальность. А мы любим мифологию. Мифологию. Мы любим смотреть ее по Первому каналу и по второму. (Смех в зале.) Лежишь себе на диване, пивасик, мифология, все хорошо, никакой реальности. Итак, про наши отношения с этой достаточно нервной барышней:
…Мы убийственно безгреховны, наши желанья просты. / Единственное, так бы хотелось, чтобы нас полюбила ты.
* * *
Но «она ухмыльнулась, передернув затвор, и мы отползли назад».
* * *
Про то, что реальность может выйти к нам в роли актрисы-«русской весны», Шевчук говорил еще в июне 2008-го. Прилюдно спрашивал у одного телеведущего, теоретика собирания земель: «Вы на что заводите народ, на войну? Я был на всех локальных войнах… Насмотрелся (по горло)… И что вы предлагаете? Пойти войной на Украину, на Грузию?»
Так он предупреждал о нынешней реальности, которая тогда мало у кого могла поместиться в башке.
— Я все-таки знал, где мы живем. И никаких иллюзий по поводу этой власти у меня никогда не было. И в нулевые я не радовался вместе со всеми, что у нас все хорошо. Иногда был в отчаянии. Не буду говорить, что я какой-то экстрасенс, но было же понятно и видно, куда это все катится.
Теперь непонятно, как из этого выходить:
— Народ завели страшно, конечно. Об этом говорят все, так что в этом случае я буду повторяться, а повторяться мне не интересно. Причем, ты знаешь, завели со всех сторон. И в Киеве достаточно циников у власти. Я зимой был там. «Слава Украине! Слава Украине!» А у нас: «Слава России! Слава России!»
Я думаю, нам до славы — и украинцам, и россиянам — лет сто: когда наши простые люди будут жить нормально. А пока народ как жил хреново, так и живет. И в России, и на Украине. Мы вообще очень похожи. И нам долго из этого дерьма выгребать.
Выбираться можно через прощение и любовь. Иначе вряд ли выйдет:
— Любая истина, сказанная без любви, — есть ложь. Апостол Павел еще сказал. Я столько раз это на своей шкуре испытывал, в своей душе, жизни… Всем нам не хватает любви. И мне не хватает любви, ужасно не хватает.
— Как мы будем устанавливать любовь между Россией и Украиной?
— Не знаю, это просто необходимо, хотя любовь не устанавливают. Она либо приходит, либо нет. Ну как ее можно установить, старик? Это что, Конституция?
— Если пропаганда установила ненависть, наверное, она способна вернуть какую-то часть любви.
— Как сказать… «Пропаганда установила ненависть» — согласен… Но не думаю, что она настолько всесильна, как некоторые считают… И народ у нас не пропащий.
— Он такой инфантильный немножко, да?
— Он просто немножко устал думать. Не то что бы устал… есть доверчивость равнодушия… Он выживает, и у него нет сил верить в добро, потому что уже много лет наше чувство справедливости совершенно не сочетается с реальной жизнью.
Приводит строчку из новой песни «Звезда»:
Кому нужна ты в суете?
Нам светят лампочки стальные,
И не печалься, остальные
Прекрасно видят в темноте…
* * *
После концерта уходим из гримерки, и мы вчетвером — с нами Мария Дмитриева, которая занималась организацией концерта, и Елена Серветтаз, журналистка RFI, — идем искать кафе на соседней площади Республики. Кафе называется «Таверна», мы берем «вино дня» почти на всю ночь, Шевчук вспоминает первую войну, которая его перепахала… Голодных мальчишек, посланных умирать. Чудовищные следы раздолбайства и равнодушия. Нынешнего министра обороны, тогда приезжавшего в роли спасателя: он в Чечне был «хорошим человеком, который мог стесняться».
Потом Шевчук вспоминает про главный в жизни концерт:
— В 96-м мы играли в Чечне концерт мира. Написали письма Лебедю и Яндарбиеву, главная тема была — освобождение пленных… Это не очень тогда получилось, но концерт состоялся. Представляешь, стадион в Грозном. Справа сидели наши с «калашами» и гранатометами, а слева — чеченцы. И мы пели «Не стреляй в воробьев!..». Мне было не то что страшно… Любой чих — и могла быть пальба. А на поле выбежали дети — чеченцы, русские. Наше будущее… Чумазые. Танцевали. Радовались. И когда я их увидел, я понял, что мы все правильно сделали.
Я бы сейчас на Украине тоже устроил такой концерт. Обменяли бы пленных. Но стороны не готовы… Видимо, не все еще устали от ненависти и крови.
* * *
Робко, но настойчиво на соседний столик приземлилась группа почитателей ЮЮ. Одна из них, светловолосая девушка «студентка Сорбонны» лет сорока, уехавшая из России 15 лет назад, долго признавалась в любви, говорила «какая честь». Иногда употребляла заумные слова — например, «прострактное». Или: «Ельцин пропил страну».
Но Шевчук, он ведь такой большой, что объединяет совершенно разных людей, и каждый находит в песнях какой-то свой смысл: «Это я сегодня громче всех кричала: «Родина!» — говорит почитательница. И добавляет: — Юрий, у меня отец живет в Нижнем Новгороде. Он лично знает Путина… Мой отец — хозяин фабрики.
— Дай бог ему здоровья…—Шевчук улыбается.
— Путин приезжал к нему на фабрику. Когда Олимпиада или что-то, заказывают в администрации у него матрешки, сувениры…
— Ну, нормальный тренд! — говорит Шевчук одобрительно. — Кому-то хорошо у нас живется.
— Когда Путин приезжает, жена моего отца в восторге. Она говорит: такого шарма я у мужчины еще не видела.
— Прелесть, — отвечает Шевчук.
— Юрий, перестаньте, arret! — улыбается студентка Сорбонны. И спрашивает:
— Но вы же довольны тем, что сейчас в России происходит?
— Нет, я не доволен, — говорит Юрий.
— Но вы, кажется, всегда были недовольны.
— А вы довольны? В стране сажают в тюрьмы несогласных… — начал ЮЮ, но его перебили:
— …Я скажу вам как студентка исторического факультета Сорбонны. Всю нашу историю российскую мы испытываем репрессии. Мы не можем жить по-другому.
— Вы живете в Париже, — говорит Шевчук. — Вам здесь легче испытывать репрессии нашего государства. А нам в России не легче… Потому что просто нам не легче и все… Случай недавно был, в Германии на концерте: один весьма подвыпивший молодец доставал долго криками: «Родину» давай!!!» Я ему и говорю: «Хорошо, поехали с нами…» Зал грохнул, а он замолчал и растворился…
* * *
Чуть раньше Шевчук рассказывал, как ему предлагали пойти в политику — и сама власть, и «либералы».
— Двое хороших людей из оппозиции приехали ко мне в Репино и часов 6 уговаривали: «Старик, давай, у тебя хороший имидж, ты нигде ничего не украл, нигде не облажался… Мы тебя сначала в депутаты, а потом на президента выдвинем». Представляете, сидишь ты в одиночестве на берегу Балтийского моря, что-то сочиняешь — и вдруг… говорят: все, старик, идешь в политику. И ты в недоумении. Тебя не понимают. И говоришь: какая политика, ребята? У меня, дурака, новый альбом. Называется: «Иначе».
* * *
Шевчук вспоминает, как в 96-м ему предлагали петь в туре «Голосуй, или проиграешь» за 120 тысяч долларов.
— Взамен нужно было спеть одну песню… «Осень»…в пяти городах. Хотя тогда жрать было нечего, я сказал нет. Меня еще потом обзывали по-разному. Говорили: «Ты предаешь демократию». Конечно, мне было не наплевать. Но я помнил женщин, детей, парней, которых убили в 95-м в Чечне. Они до сих пор мне снятся. Они погибали абсолютно безропотно, как часто в России это бывает. Они погибали, не понимая, почему и зачем. И я не мог играть за эту власть, положившую тысячи людей. Я вообще никогда ни за какую власть не играл и не буду.
Впрочем, иногда власть настоятельно рекомендует обратное — то есть именно что не играть.
— Я перед самой перестройкой сидел в уфимском КГБ. В пять утра тебя забирают и поехали: сутки допроса. Они подсовывали мне бумагу: ты, Юрий, напиши, что больше не будешь петь песен и отрекаешься от написанных. Мне грозила серьезная статья за антисоветчину и религиозную пропаганду — это, по-моему, до 3-х лет отсидки плюс 6 лет удержания в гражданских правах… Ты сидишь и думаешь: подписать — и все, пошел домой, а не подписать — никто не знает, куда ты пойдешь. Я все же отказался. Но меня выпустили, потому что люди Уфы стали собирать подписи в мою защиту.
К сожалению, из-за меня пострадало много человек — увольнение с работы, административное наказание… Ведь когда подписывались, оставляли по наивности свои адреса… И потом мне один гэбэшник говорил: «Юрий, народ за вас, к сожалению. Так бы мы вас запаковали нах…»
— И сейчас, наверное, такой же расклад… (Общий смех.)
— Наверное. Я помню, как я, третьеклассник, шел по весенней улице в Нальчике после того, как меня приняли в пионеры. С красным галстуком на груди. Я его лично нагладил… И шел с такой мыслью, что я самый крутой. Что страна самая крутая. Что завтра уже коммунизм… И вот навстречу три хулигана. Они говорят: «Тряпку сними». Я в ответ: «Какую тряпку?!» Была серьезная драка, получил по полной… Еле дополз до дома. А мама, суровая колымская женщина, говорит мне: «Ну что, сынок, получил за идеологию?» (Общий смех.) А я за этот галстук дрался, как герой. Я грыз их зубами… эх, мифология…
* * *
— Знаете, буддисты говорят, что если твои слова рождают ненависть, значит, ты неправильно сформулировал свою мысль. Недодумал.
Необходимо искать новые рифмы, чтобы выразить это время, войну и мир, светлое в темном у наших соотечественников, которых сейчас рвет в разные стороны. Я мучительно ищу ключ к любому сердцу, к черствому, убитому жизнью сердцу. Мне это сейчас кажется самым важным.
Ведь очень много хороших людей у нас. Из них пытаются сделать злых. Нам необходимо найти чистую ноту, которая бы противостояла этой рекламе бесчеловечности. С абсолютным пониманием того, сколько говна присутствует в этой жизни в данный момент. Ну и вчера его было много. И завтра будет достаточно. Но все-таки очень важно не добавлять зла в этот мир, не позволить мракобесам довести эту бесконечную борьбу до апокалипсиса.
Пытаться объяснить козлу: «Ну ты же хороший, блин, останься человеком». И если он не блеет, это уже немало, это огромная победа. Что еще… Людей убивать я не умею. Революции делать — тоже. Могу поддержать хорошего парня… Могу не поддержать… (Смеется.)
* * *
Тут Шевчук вспоминает протесты 2011—2012:
— Ребята стояли неровно. Многие красовались: мля, мне, мня… Шубки, губки… другой уровень должен был быть… Когда я приехал на Болотную, посмотрел на это все, то понял, что сдохнет эта харизма через два месяца. Но я там пел при этом. Потому что хотел поддержать хороших ребят.
А потом наступили праздники, и многие хорошие ребята уехали на лыжах кататься. Один очень хороший парень мне сказал: ну надо отдохнуть… Повоевали, значит. А эти два месяца решали все. Так что перелома не произошло не потому, что народ плохой, а потому что многие лидеры были мажоры…
* * *
Кафе закрылось, мы стоим на балконе шевчуковского номера с видом на площадь Республики. Французы долго дрались за свою драгоценную республику, за свои либерте-эгалите-фратерните, но Юра надеется, что нам столько не придется:
— Я думаю, что Россия все-таки выползет из этой тени. Она в сумрачной зоне. Я помню, на Колыме метель, пурга, руку раскрываешь — не видно пальцев. Вот у нас сейчас такое же время. Метель. Молоко. В этом молоке ты можешь потеряться. Ты 50 метров не дойдешь до другого дома. Но куда мы денемся — все прекратится и выйдем на свет. Потом — небольшие судороги гражданских родов — и будет солнце. Просто важно делать то, что ты должен. Искать свое место, ловить свой ветер в паруса, не подстраиваться и не пристраиваться, говорить о том, что тебя волнует, не врать, не подвергать себя цензуре, не прятаться в камуфляж «ников», чтобы тебя никто не нашел… Делай что должен, и будь что будет, но я верю в то, что будет не очень плохо. Потому что люди в основном хорошие, любящие, но просто не все про это знают (смеется). А мы им это пытаемся объяснить. Не уверен, но, кажется, иногда получается. Эх, опять всех учить жить начал…
На этих словах мы добавили в стаканы вина.
* * *
— Я вчера очень долго ходил по Парижу, ноги отваливались, поймал машину, а за рулем была таксистка Женевьева. Разговорились на ломаном английском. Я говорю: а я люблю Бреля. Я Бреля обож-жа-ю, блин… Не ме кита па. Она взяла и на своем айфоне поставила его записи, и мы с ней так и чесали до Монмартра, где мои друзья, французские музыканты, живут… И во все горло пели. И я был счастлив. И она была счастлива. Я рассказывал ей о Питере. Она меня учила французскому языку. Я учил ее русскому. И так минут за сорок мы доехали до Монмартра. И это было мое лучшее воспоминание о Париже. Женевьева, такси, Брель… И был кайф. Мне кажется, что мы преодолеем все пробки… Конечно, это не только от нас зависит… от политики на дворе, от нашего мироощущения, ценностей. Я делюсь своим. Вы — своим. Нас сегодня делят. Все сегодня делится. Завтра будет делиться. И так — пока не сдохнем… или не объединимся на основе… угадайте с трех раз.