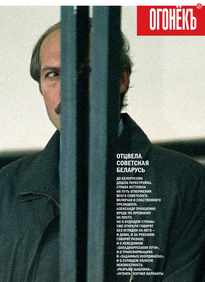Не успеваем осмысленно отойти, чтобы лучше разглядеть итоги предыдущего года, как уже торопливо собираем урожай нового. Никому не известные «читчики», «эксперты» и критики вынужденно пользуются короткой памятью, длинная — отсутствует. А дальнейший выбор идет по уже протоптанной «экспертом» дорожке — так-то проще, через присоединение к мнению.
Назову главные, на мой взгляд, имена и романы за последние десятилетия: Михаил Шишкин, лауреат «Букера»-2000 («Взятие Измаила», а потом появились и романы «Венерин волос», «Письмовник»), Владимир Шаров («Репетиции», «Старая девочка», «Воскрешение Лазаря», роман на прощание с читателем — «Царство Агамемнона»), новая Петрушевская («Нас украли. История преступлений»), Светлана Алексиевич («Время секонд хэнд» и другие книги), Мария Рыбакова («Анна Гром и ее призрак», «Гнедич», «Если есть рай»). Не забудем и шоковые романы Владимира Маканина (да, умер, но «Андеграунд» и «Асан» живы, читаются, обсуждаются). Наконец, Александр Терехов. Проза поэта — Сергей Гандлевский, «НРЗБ». И его стихи — но об этом в другой раз, сегодня мы о прозе, нельзя о стихах говорить «между прочим». Исторический роман-триллер — это, увы, ушедшие не так давно Анатолий Азольский, Маргарита Хемлин. Замечательные авторы, плохо и мало прочитанные. Есть такая игра составлять списки — у каждого из думающих о литературе будет свой, но в пересечениях открывается общее, а по краям новое. И вместо очередного стона — куда ни кинешься, ничего у нас нет! — хорошо бы посмотреть хотя бы в иносторону: Ягеллонский университет в Кракове раз в два года усилиями замечательных польских русистов проводит международные конференции «Знаковые имена русской литературы», их «героями» были поочередно Михаил Шишкин и Евгений Водолазкин; на следующий год разбирать по косточкам будем тексты Марии Степановой. Другое дело, что и у «знакового» имени могут быть неудачи — таковой я, например, вопреки уже распространившемуся мнению считаю последний роман Водолазкина «Брисбен»…
У нас ведь оценка писателю присуждается навсегда, как орден. Без оттенков в дальнейшей литературной судьбе, подчас очень коварной,— и без возможных разочарований!
Литературная среда опознает уже привычное, там для нее галочка стоит, отсюда феномен «двух куриц в одни руки», о чем пошутила Людмила Улицкая на вручении ей еще одной «Большой книги». И проходим мимо… как прошли мимо так и не замеченного и не оцененного по достоинству писателя Дмитрия Бакина. Очень горько. Та же среда положительно реагирует на имитацию, поскольку именно в эти годы, первые два десятилетия, постепенно возобладало торжество имитации чуть ли не во всех аспектах жизни. Хочу фермерских продуктов! А для расплодившихся creative writing schools, скажем, показано собирание текстов по технической инструкции. А потом — возникают поддержанные «авторитетами» публикации, затем — ведущими, завязанными на премиальный процесс, репутации, это следующий шаг. Быстро, не теряя темпа, чтобы никто не успел опомниться и завопить: братцы, что ж это делается, куда бежим? Инструктируем? Что, сами так уж хорошо пишем?
Выбором посильно манипулируют (это входит в состав их профессиональной деятельности) и книжные магазины, и книжные журналисты, и блогеры. Обслуживает книгопромышленность, управляя выбором покупателя, ласково навязывая определенный вкус. Маркетологи и пиарщики решают, а им в принципе все едино — что ботинки продвигать, что книжки. Главное, чтобы «брали». Книга — товар, нуждающийся в продвижении, а не скрещенье таланта и темперамента, и уж совсем не «кусок дымящейся совести»; гудбай, Пастернак.
В литературе, как и в других искусствах, прогресса нет и быть не может, это не научные области, где одно открытие отменяет предыдущее. Вряд ли кто предъявит пьесу лучше шекспировой. Драматург Чехов рождается раз в столетие. Вряд ли кто сочинит комедию лучше Аристофана. Обращусь к сюжету упрощения, а не прогресса. Да, конечно, такой сюжет есть. Другое дело, что масскульт не может подчинить себе всю публику. И упрощается не только масскульт. А это никак невозможно, упрощать сложное, иначе откуда дрожжи для дальнейшего возьмутся?
Андрей Платонов говорил, что в литературу попер читатель. Сейчас дела обстоят хуже. В литературу попер нечитатель. В кино так «переть» не получится — насмотренность там профессионально предусмотрена ремеслом. А у нас — наследие советских времен: писатель бравирует своей неначитанностью. Мол, зато он знает Россию. Проездился по России. А Марсель Пруст? Джеймс Джойс? Кафка? Что, они проездились по Франции, Чехии, Ирландии?
Был в свое время «призыв ударников в литературу», сейчас это происходит на новом этапе. Раздражает компанейщина призыва молодых в литературу, теперь уже учреждена премия «Класс» для школьников — тенденция такая, уступи место юным сочинителям! Чего расселся, 40–50-летний? Брысь под лавку! Дай дорогу молодым. А это разве не поколенческий шовинизм? Напомню, каким потрясающим редактором «Юности» стал 60-летний Валентин Петрович Катаев, открывший без компанейщины 21-летнего Анатолия Гладилина и 26-летнего Василия Аксенова. Журнал был назван «Юность», но до него надо было дорасти.
Да, автор попер агрессивно непросвещенный и не желающий просвещаться — мол, иначе он потеряет свою «самость». Батюшки светы! Не поменяем портянки на носки! При всем моем уважении к самодеятельности она проникла в сознание: почему ж не обозначить себя писателем, если сегодня так просто — издать книгу.
Сложное при этом никуда не делось, но оно располагается по краям, в том числе премиальной литературы. А как иначе, если более 10 лет карьеру писателя определяют четыре эксперта (почти не сменяемые часовые «Большой книги»), прекрасные спецы своего дела, но все же связанные с другими институциями, и, естественно, своими интересами, не в безвоздушном пространстве обитаем, а потом определенный ими список поступает для голосования стоглавому жюри (и я в него вхожу, но понимаю: во-первых, список сформирован не нами, мы, откровенно говоря, поставлены перед фактом чужого жесткого выбора, а во-вторых, посредственная температура по больнице гарантирована, один голос гасит другой).
Что касается открытий в виде sms-романов, твиттер-романов и прочего, то ничто не устаревает так быстро, как сленг и подражание техническим новшествам. Все эти «литературные открытия» — на одно поколение гаджетов.
Открытия, то есть новые «сложные вещи», многослойные, где есть не только физика, но и метафизика, постпостмодернистская и постреалистическая поэтика, с включением дневников и воображаемых дневников и писем; и сложная, психологическая, реалистическая проза с литературной задачей, что важнее прочего, есть. Есть и сложные поиски на границе поэзии и прозы, в разных жанрах. Еще до прозопоэзии в духе Саши Соколова или одновременно с ним у нас возникли гибридные тексты. И «промежуточные жанры» (термин Лидии Гинзбург). Жаль, что мы не очень-то внятно проговариваем приоритеты поиска. Что в итоге? Одна лишь премия Андрея Белого, дай бог здоровья ей и премии «НОС», которая, на мой взгляд, находится все еще в процессе становления. И журнальные ежегодные премии, не забудем, премии профи. Но, повторяю, сложные тексты, в том числе романы, у нас есть — «Нас украли. История преступлений» Людмилы Петрушевской тому пример. Целое направление — проза фэкшен, сочетающая фикшен и нон-фикшен.
Мы тормознули на несколько десятилетий, потеряно или искажено кровное во всех смыслах литературное наследство, утрачен литературный капитал, к которому принадлежат языки и стили модернистской прозы конца 1920-х и начала 1930-х годов. Эта литература пришла к читателю и новому писателю с огромным запозданием, и она уже не оказала того воздействия на процесс, который могла бы, да и должна была, приди она вовремя. Что было бы дальше, если бы развитие шло естественным путем? А так она вроде как напечатана, вернулась, но погасла как ориентир. И еще до сих пор сказывается оторванность от мирового литературного процесса, идеология литературного изоляционизма. Долго утаптывали и трамбовали. «Ну что, Заболоцкий стихи пишет?» — вопрос лагерного начальства. Так, как раньше, не будет. Леонид Добычин — кто его продолжает сегодня, кроме Дмитрия Данилова? В ком еще очнулась модернистская проза 1920-х? Трава вырастает, но эндемики, редкие растения, погибли.
Другое дело, тут надо вспомнить Георгия Гачева, странного литературоведа и мудреца, рекомендую очень посетить выставки о нем, сейчас как раз идут, у него была ранняя работа по теории с открытием ускоренного развития литератур. Он написал ее на материале болгарской литературы (его отец был болгарин, музыковед, репрессированный и расстрелянный, как у нас водилось). Так вот, по Гачеву: если какая литература в вынужденных исторических обстоятельствах отстала от мирового развития, стоит обстоятельствам измениться, так она за полвека пройдет путь, на который у других (французов, немцев, англичан) ушли два-три века.
Так и мы — нагоняем сами себя. И мир.
Обречен ли роман?
Краткий, «европейский» по формату роман не обречен — ожирение здесь искусственное, это издатели писателей приучили. Им выгоднее продавать и распространять толстые романы. Европейский роман по формату равен русской повести. Книга будет нетолстая, опять же посмотрите на галлимаровские издания. На Западе толстый роман чаще всего принадлежит массовой литературе. Или это небольшой по листажу, но изданный на хорошей, плотной и легкой, кремовой (как я люблю) бумаге высокий текст. Книга получается легкая. Да, кстати: никто никого не заставляет писать по роману в год, как это делает Виктор Пелевин. И Шишкин, и Шаров на роман отводили не менее пяти лет. Не скажу, что это рецепт, просто романисту нужно время, чтобы выдохнуть, а потом вдохнуть.
Роман как жанр, безусловно, жив. И нас переживет. Жанр исключительно живучий, эластичный. А у нас в традиции русского романа на самом деле никакой традиции и нет. Написал Пушкин «Евгения Онегина» — разбил форму. Но хозяйке на заметку оставил замечательную формулу: «даль свободного романа». Именно так и пошло. Написал Гоголь «поэму» (конечно, в романной форме) «Мертвые души» — и уже никто в здравом уме использовать ее не рискнет. Далее. Толстой — каждый раз по-новому, Достоевский изобретает жанровую форму для каждого романа. Повторяемость прочитывается у романистов второго-третьего ряда, ну и у Тургенева, а вот у Гончарова — нет. И в ХХ веке так. Когда соцреализм взял власть, так подчиненные писатели стали припадать к толстовской фразе и форме. Да, повторение. Ведь ни «Чевенгур», ни «Мы» не учитывались. И даже великий роман «Жизнь и судьба», романы «В круге первом» и «Раковый корпус» написаны по толстовским, адаптированным соцреализмом законам. Освобождаться от этого почти гипнотического влияния трудно. Так что и «диссидентское», условно говоря, содержание укладывалось в привычную форму.
А потом — «Обитель», романы Гузели Яхиной, да и Улицкой, Дины Рубиной все-таки к колышку прикреплены. Я хочу сказать, что освобождения жанра достичь нелегко. Но ведь стараются, стремятся — например, Александр Терехов пробивается через притчу, метаметафору, монтаж документов; Дмитрий Данилов через добычинскую линию и фиксацию состояний. Одной фразой: сколько бы ни было «поминок по роману», похорон не дождутся.
Связь общества и литературы
Прямой связи между состоянием общества и состоянием романа нет. Когда у нас все перевернулось и еще не стало укладываться, я была уверена, что получим авантюрные романы с героем-трикстером. Тогда появился роман поэта Бахыта Кенжеева «Иван Безуглов», яркий и смешной: у нового русского в подчинении все персонажи с именами великих поэтов и прозаиков — бухгалтер Баратынский и т.д. Антон Уткин — резкий и в то же время забавный роман «Самоучки» (опять же к вопросу о нашей нехорошей черте, забывчивости), сюжет тоже авантюрный, с новым русским героем; тот, чтобы стать еще и культурным, нанимает одноклассника-отличника для пересказа шедевров — «тискает» ему романы (помните, где и как это было отражено у Домбровского?). А дальше — тишина, не пошла в русской словесности легитимация русского капитала, не получил он патент на благородство. Вот вам еще имя, запомните: Антон Уткин. А из совсем новых — Алексей Музычкин.
Сегодня неспокойно наше море, насчет общества не скажу, это еще только рождается, гражданское-то общество, волна горбом вылезет то в Екатеринбурге, то в Мурманске. А литература перед этим теряется.
Вместо условно современного романа мы получили девятый вал ностальгии — прошлое, непрошедшее прошлое, корни, семья и ее прошлое, сага, глубоко роет крот истории, до XVI века и глубже. Все это упирается в недодуманное, непроговоренное прошлое страны.
Отсюда и «страх политики». Не было суда над прошлым, не было общенациональной дискуссии, упустило общество этот момент и эту возможность. Поэтому вынужденно-гипнотически возвращается на места преступлений. И литература тоже, вместе с ним. Но ощущения-то мутные, непрозрачные. «Зомби» нас постоянно тревожат, вот Сталин, например, куда ж без него. А ведь даже не надо спорить о миллионах погибших — одной судьбы Мандельштама довольно, иначе мы уж совсем спустились к насекомым по лестнице Ламарка. Да и идейно поворот к прошлому очень напоминает о том, что страна берет на вооружение сегодня — как в лунатическом сне, полном дурноты, и «иностранных агентов», и «кольцо врагов» и прочую риторику самого конца 40-х — начала 50-х. Слишком много рифм. Вроде бы освободились в 90-е от эзопова языка, а теперь в прозу опять пошли антиутопии, притчи, аллюзии.
С другой стороны, в прошлом безопаснее, там можно комфортно укрыться, ведь 60-е, сейчас вошедшие в моду, никого из современных «персонажей» не задевают. Да пожалуйста. Да ради бога. Можно и 70-е. И 80-е. Можно и 90-е тронуть, если они для вас «лихие».
Рынок и литература, к которой мы с вами пытаемся пробиться, это параллели, но пересекающиеся. Литература живет по Лобачевскому, не по Эвклиду. Опять вспомним Александра Сергеевича: не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. Условимся… Но сегодня гонорары более чем скромные или их вообще нет. Кинематографисты рыдают, что им не хватает на кино, а писатели тихо погибают в одиночку или идут в люди. Недавно приходила ко мне молодая прозаик (феминитивы, ау), на жизнь зарабатывает своим поварским искусством. Оно ее кормит во всех смыслах.
…Лет пятнадцать тому назад я проводила параллели постмодерна с Серебряным веком — любопытная картина получалась. Сегодня не рискну. Мне многое не нравится, хочется порой плюнуть на все и уехать в Урюпинск, завязать с критикой и полностью уйти в историки-теоретики, тем более что я веду на филфаке МГУ, на кафедре теории, спецкурс и спецсеминар, посвященный современной литературе и критике. Бакалавры и магистранты строги к современной словесности, но занимаются ею с удовольствием. А я — я это вижу — и к ним присоединяюсь.