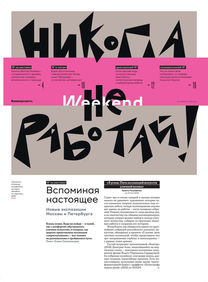В ГМИИ имени Пушкина открывается выставка классика венгерского реализма Михая Мункачи (1844-1900). Картины Мункачи из Венгерской национальной галереи и частной коллекции Имре Пакха выставят вместе с работами европейских и русских современников «одного из самых решительных, неукротимых реалистов в Европе», как писал о нем Владимир Стасов
Невероятно, но факт: выставка Михая Мункачи — первая в России. Раньше его почему-то не привозили — несмотря на советский культ девятнадцатовекового критического реализма, на советско-венгерский культурный обмен, на прямо-таки рекордное количество выставок из дружественной Венгерской национальной галереи, чьи каталоги и альбомы исправно переводились на русский, на восторженный отзыв главного русского критика Владимира Стасова, наконец. Этот отзыв в ГМИИ цитируют с большой охотой. В 1873 году на Всемирной выставке в Вене Стасов впервые столкнулся с живописью молодого венгра, становящегося европейской знаменитостью, и с молодой венгерской школой, о существовании которой ранее не подозревал. Тогда он не пожалел похвал: "один из самых решительных, неукротимых реалистов в Европе", "смел, резок, неправилен, капризен, но зато глубоко правдив и выразителен: создаватели новых школ и направлений всегда таковы" и так далее. Правда, в ГМИИ не цитируют другой отзыв Стасова — из очерков об искусстве XIX века, написанных четверть века спустя: "Венгерец Мункачи, вначале талантливый реалист-националист и создатель нескольких замечательных бытовых картин в стиле своего учителя Кнауса, позже, разбогатев и сделавшись знаменит в Париже, вздумал приняться и за "грандиозную" историческую живопись: он написал "Слепого Мильтона, диктующего дочери свою поэму"; картина получила большую известность по эффектному письму, но мало удовлетворяла театральным, искусственным выражением; наконец, затеял он писать картины на евангельские сюжеты. Его "Суд Пилата" и "Распятие" были громадные, поразительные полотна, но, невзирая на тщательное изучение еврейских костюмов и типов, они доказали только полную неспособность Мункачи к истории и психологии". Когда Стасов писал эти строки, Мункачи умирал в немецкой психиатрической клинике, но слава его была все еще жива, хотя в нем к тому времени разочаровался не один только наш суровый критик. Ныне это почти общепринятая точка зрения: все самое лучшее Мункачи сделал в молодости, а после только деградировал, художественно и морально.
Его настоящее имя было Михай Либ — псевдоним получился из названия родного города художника, тогда — австро-венгерского Мункача, теперь — украинского Мукачева. Это сейчас Мукачево, украинско-венгерско-русинское, у всех на слуху, полтора столетия тому назад имя Мункачи, в сущности, означало человек из ниоткуда. Из ниоткуда и из ничего — у него было полуголодное детство "в людях": ранняя смерть матери и отца, мелкого чиновника, положение приживала у родственников, обучение плотницкому ремеслу, случайные уроки у бродячего художника. Подобно многим людям из ниоткуда, он был амбициозен и стремился наверх: из грязи в князи, из захолустья в Париж. Учился в Вене, Мюнхене и Дюссельдорфе — в трех важнейших академических центрах эпохи, ездил в Париж — смотреть Курбе, Милле и барбизонцев. Вскоре Париж был покорен. В 1870-м Мункачи послал в Салон картину "Камера смертника": целая деревня пришла поглазеть на осужденного разбойника — образ, столь популярный в венгерской национальной мифологии,— заполнив темницу живописным фризом на манер курбетовских "Похорон в Орнане". "Камера смертника" получила золотую медаль — в Салоне такое нечасто случалось с никому не известными художниками. Отзывы были только восторженные: Вильгельм Ляйбль, будущий классик немецкого реализма и друг Мункачи, писал, что это вообще лучшая вещь на выставке,— но он, положим, мог быть пристрастен, а вот благосклонность Гюстава Курбе дорогого стоила. Да и Людвиг Кнаус, дюссельдорфский учитель Мункачи, сменил гнев на милость — эскиз ему откровенно не нравился, а законченную картину мэтр похвалил. Первый успех в Салоне принес Мункачи не только символический капитал: парижские маршаны и меценаты потянулись в Дюссельдорф покупать и заказывать, а вскоре и сам Мункачи переехал в Париж.
В Париже он поселился в 1871-м — до первой выставки импрессионистов оставалось три года, но Мункачи не собирался примыкать к новаторам. Просто он, по проверенному академическому рецепту, использовал все хорошее, что плохо лежит, и держал нос по ветру, ездил в Барбизон,— так что сам черт не разберет, чего больше в его пейзажах, в той же "Пыльной дороге": барбизонцев, импрессионистов или Тернера. Он выдал еще несколько картин из народной жизни с национальным колоритом и романтическим ореолом венгерской революции вроде "Щипальщиц корпии" и "Ночных бродяг" — последнюю как раз и видел в Вене Стасов. А затем его жизнь и искусство изменились фантастическим образом: Мункачи стал кумиром Салона — во всех смыслах слова, со строчной и с прописной букв. У него завелся состоятельный и знатный парижский покровитель, барон де Марш, он начал бывать в свете, а после скоропостижной смерти барона женился на его вдове и блистал в ее салоне, сделавшись модным и, как утверждают исследователи рынка, самым дорогим европейским живописцем своих дней. Салонным живописцем: презрение Стасова адресовано не романтическому гению, разменявшему дар на славу и богатство, а типичному дельцу от искусства Третьей республики, который должен был стать венгерским Яном Матейко, но, несмотря на большое количество патриотических сюжетов из венгерской истории, не стал — и даже недотягивает до Ханса Макарта. Ордена, дипломы, дворянская грамота Франца Иосифа I, золотая медаль Парижской выставки 1878 года, лестные заказы вроде плафона для главной лестницы Музея истории искусства в Вене — почести сыпались как из рога изобилия. Выставки помпезно-театральных картин на евангельские и исторические сюжеты, не столько выбранные самим живописцем, сколько подсказанные заказчиками, собирали толпы восторженных зрителей в Старом и Новом Свете. Лишь последние годы любимца публики были омрачены душевной болезнью — полагают, что художник перетрудился, вначале связанный кабальным контрактом с одним венским торговцем картинами, затем прельщенный масштабными государственными заказами. Сегодня за пределами Венгрии имя Михая Мункачи известно разве что специалистам.
Ныне это почти общепринятая точка зрения: все самое лучшее Мункачи сделал в молодости, а после только деградировал, художественно и морально
Два картины Мункачи есть и в самом ГМИИ: "Певец" и "Составление букета", обе передали в Пушкинский в 1948-м, когда был расформирован Музей нового западного искусства; ранее же они принадлежали двум знатным московским собирателям, первая — Павлу Харитоненко, вторая — Сергею Третьякову, брату, и это еще один сертификат всемирной популярности художника. Из Венгрии привезут еще около двадцати его картин, преимущественно салонного толка, в том числе и обруганного Стасовым "Мильтона", но будет и несколько недурных портретов и пейзажей — то, что сегодня ценят у позднего Мункачи. А ГМИИ имени Пушкина совместно с Третьяковской галереей готовит для протагониста массовку из европейских и русских художников второй половины XIX века: тех, на кого смотрел Мункачи, и тех, кто смотрел на него,— от Коро и барбизонцев до передвижников и Коровина. Это самый разумный и элементарный кураторский ход — в стиле "художник и его эпоха". Но можно было бы пойти иначе — в стиле "художник и будущее". Тогда вместо экспозиции с "фоном эпохи" зрителям надо было бы выдавать билет в Третьяковскую галерею на Крымском Валу, где сейчас по удачному совпадению идет выставка советского гиперреализма. Потому что первым в истории фотореалистом можно было бы — с большой натяжкой — назвать Михая Мункачи.
Он действительно много работал с фотографией — начиная с 1860-х годов: рядил натурщиков в народные или исторические костюмы, ставил или усаживал в соответствии с той позой, какую фигура займет в композиции, снимал, но, конечно, не проецировал фотоизображение прямо на холст — по снимкам делались подготовительные рисунки и этюды маслом, а уж затем из них составлялась, как пазл, большая картина. Снимки не покажут, а жаль — они очень хороши, сами по себе вполне художественны, большая коллекция их хранится в Музее Мункачи в Бекешчабе. Он, кажется, получал истинное удовольствие от процесса и мог бы прославиться как светописец — нет, правда: у него выходило ничуть не хуже театральных портретов младшего Надара. Понятно, что в последней трети позитивистского XIX века не один Мункачи подходил к мольберту во всеоружии новейших технических средств, но ему они принесли больше пользы, чем кому бы то ни было из его современников. Странную застылость фигур, сдержанный, темный, подчас практически черно-белый колорит Мункачи любят объяснять как всеобщим тогда увлечением Веласкесом, Рембрандтом и Халсом, так и содержанием. Вот, дескать, выражение внутреннего конфликта, скрытой драмы венгерской истории с ее главной на тот момент темой — темой борьбы против австрийского угнетения. Но, быть может, это просто фотография — с чудовищно долгой выдержкой, альбуминовой, допустим, печати,— под влиянием которой сложился визуальный код Мункачи, воспринятый как национальный стиль и транслировавшийся в будущее — вплоть до черно-белых фильмов Миклоша Янчо. В конце концов, количество великих венгров в мировой истории фотографии — назвать только Брассая, Кертеса, Капу, Мохой-Надя и Мункачи (Мартина) — непропорционально скромным размерам страны на карте мира. Как знать, не стоит ли искать особенности венгерского чувства формы в этой загадочной зачарованности фотокамерой. И тогда, получается, Стасов зря разочаровался в Мункачи как "создавателе" национальной школы.
"Вокруг Михая Мункачи". ГМИИ имени Пушкина, Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, c 31 марта по 28 июня