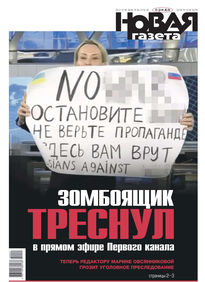Илья Хржановский — один из немногих моих современников, которых я считаю гениями. Под гениальностью здесь понимается не только способность создавать великие проекты (кино — частный случай), но и весьма редкое умение поляризовать любую аудиторию, выявлять злобных идиотов, поддерживать собственным примером одиноких нонконформистов. Мне прекрасно известны альтернативные мнения о Хржановском — манипулятор и абьюзер, грамотно разводящий спонсоров, паразитирующий на исторических трагедиях, создающий секты единомышленников-фанатиков… Все это звучит убедительно, по крайней мере для консерваторов и мономанов любого типа, и тоже стало — пусть неосознанно — частью художественной стратегии Хржановского: он вообще умеет давать людям смысл и цель жизни. У одних этот смысл — работать в его фильмах или в мемориале «Бабий Яр», который он сейчас делает в Киеве; у других — мешать ему и ненавидеть его. Все при деле, и я даже не знаю, кто счастливей.
Мне важно понять, что станет делать Хржановский по завершении пятнадцатилетней работы над «Дау» — циклопическим циклом из пятнадцати картин, снятых с 2006 по 2009 год в специально выстроенном для этого харьковском закрытом Институте.
«Бабий Яр» — мемориал, вызывающий в Украине полемику такого накала, какой в России давно не встречается.
Ведь согласитесь, даже зная, что Микеланджело — человек неприятный, вы все равно захотели бы, случись такая возможность, своими глазами посмотреть, как он работает. И дело не в жанре — он у Хржановского в самом деле личный. Дело в масштабе затеянного. В высшей степени душеполезно знать, что рядом с вами и со всем вот этим человек делает нечто великое. Великое — не значит хорошее, или безупречное по вкусу, или гуманное, или красивое. Великое — значит радикально меняющее мир.
— Странно, почему в Украине распространилось такое неприятие лично вашего участия в проекте: да, приехал москвич, осваивает деньги российских спонсоров, но, кажется, было тридцать лет независимости, чтобы сделать мемориал самим…
— Было не до мемориалов, их, собственно, и не строили почти — кроме памятника погибшим в Голодоморе. Предпринимались попытки — можно было бы сделать отдельную пирамиду из камней, заложенных в основание будущих памятников Бабьего Яра. И это был бы отдельный хороший памятник. Но было не до того, и раньше все это имело другую значимость. Это как бы не выходило за пределы общепринятого Холокост-дискурса: были живы уцелевшие, и был определенный, давно выработанный, строгий, практически безэмоциональный язык разговора на эту тему. Теперь, когда из свидетелей трагедии почти никого не осталось в живых, и нам выпало строить мост — между теми временами и будущими; свою роль я вижу, собственно, в этом. Можно было построить еще один — более или менее стандартный — музей Холокоста. Но у нас другие задачи — и другие обязательства. Мы должны создать место живой памяти, где отношения с событиями 80-летней давности будут актуальными и эмоционально важными для всех, кто придет в Бабий Яр, в независимости от возраста и национальности.
— Но особенность украинской ситуации еще в том, что теперь участие украинцев в массовых расстрелах не оспаривается…
— В случае Бабьего Яра убивали — не украинцы. Хотя этот вопрос остается чрезвычайно горячим, и происходят вещи, которые я не мог бы себе представить, просто не мог, я оцепенел совершенно. Важный немецкий политик ходит по мемориалу и спрашивает: а точно ли убивали немцы? Потому что, говорит он, есть место, где убивали румыны, переодевшись и представляясь немцами. Может быть, и здесь так? Надо проверить, поднять архивы… Так что немцы тоже еще надеются разделить ответственность. Но здесь мы можем совершенно точно сказать, что украинцы стояли только в оцеплении. Острота вопроса не в этом, а в распространяемом в обществе образе того, что «строить украинский мемориал приехал русский режиссер на деньги русских олигархов». И не есть ли все это тайная операция ФСБ под прикрытием СВР? Особенно если учесть, что «этот режиссер на съемках пытал детей с синдромом Дауна»…
— Ну это обвинение, насколько знаю, с вас снято, и перед вами извинились.
— Дело действительно закрыто, хотя никто не извинился, включая тех, кто умышленно оклеветал проект «Дау», меня и моих коллег и способствовал возбуждению уголовного дела.
Что касается восприятия этого проекта в Украине. Знаете старый патриотический принцип — «Техас могут грабить только техасцы»? В определенной части украинского общества возник протест. Почему не живущие в Украине бизнесмены Хан и Фридман строят в Украине мемориал? Почему они вкладывают сюда сотни миллионов долларов? Хотя помимо Хана и Фридмана проект финансирует украинский миллиардер Виктор Пинчук, американский миллиардер, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, и вообще все управляется международным наблюдательным советом под председательством великого борца за права человека Натана Щаранского, при участии бывшего президента Польши Александра Квасьневского, бывшего вице-канцлера Германии Йошки Фишера, чемпиона мира по боксу Владимира Кличко, нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и других замечательных людей нашего времени. Но все равно в прессе основной фокус — участие Фридмана и Хана в проекте.
Плюс к этому потом возникло неприятие моей конкретной личности. Я-то как это себе рисовал: если мне плохо в Москве, если меня там не принимают — я приезжаю сюда как желанный гость, великий и великолепный. А ничего подобного. Я враг и агент врагов.
— А разве в Харькове, во время съемок, вас не воспринимали как великого и великолепного?
— В Харькове меня вообще не воспринимали, потому что не видели. Я не давал интервью и всем запрещал. У меня были представители по работе с властями, с прессой, с блатными — все они ссылались на некоего Илью, каждому рисовался свой образ Ильи. Я думал — и, наверное, не без оснований — что, увидев Илью реального, они просто пошлют его сразу.
— Могло такое быть.
— Здесь многих еще напрягает размах — что строится нечто мегаломанское: не на семи гектарах, как изначально планировалось, а на 132. То есть это уже не сто миллионов, а четыреста. И зачем людям в это вкладываться? Что их заставляет?
— Кстати, что их заставляет? Хана и Фридмана?
— То, что у Хана в Бабьем Яру лежат десять человек, а у Фридмана шесть.
— Если мемориал увеличился в десять раз, значит, не будет парка? Его жалко, люди гуляют…
— Парк мы не трогаем.
— Что изменилось в вашем собственном восприятии проекта?
— То, что это должно стать не только местом скорби, а местом любви. И в конечном счете — местом той радости, которая выше страдания.
— Это невозможно. Я не знаю, катарсис какой силы надо там испытать людям, чтобы они смогли испытать там любовь и радость. Может быть, всем чудом спастись.
— Это вообще не очень простое место, потому оно как бы и притягивает трагедии. Оно сакральное, святое. И там все уже есть, такая модель мира: Бабий Яр; крупнейшая в Европе психиатрическая больница, в том числе с закрытым, окруженным забором с колючей проволокой корпусом для маньяков; морг; действующий мужской монастырь; парк; телебашня; еще несколько яров, в которых дерутся, совокупляются и колются; роддом; мемориал; старое кладбище; метро с палаткой шаурмы и тиром рядом; в недостроенном корпусе психбольницы, кстати, проводят тренировки по страйкболу… То есть всюду жизнь, и во всех своих проявлениях, совершенно полярных.
Я хочу, чтобы мемориалом стала вся эта совокупность. Потому что там же очень много всего происходило.
Именно там неподалеку — Лукьяновка, где был убит Андрюша Ющинский и где приказчиком на заводе работал обвиненный в его убийстве Бейлис. Здесь же 13 марта 1961 года случился сход селя — затопление района Куреневка, когда разрушились 80 домов и погибли полторы сотни человек (слухи ходили о тысячах). У нас стоит монумент и этой катастрофе тоже.
— Вот знаете, именно такая концентрация бедствий вокруг этого района и заставляет меня думать, что к нему лучше не прикасаться. Это какое-то место беды, разлом…
— Я хочу, чтобы это стало место силы. И почему только беды? Во время Куреневской трагедии сумасшедшие, которые гуляли в парке, кинулись спасать жителей домов, накрываемых селем. А так называемые нормальные люди, напротив, кинулись грабить эти дома. Так что это место — оно скорее проявляет человека, нежели вредит ему…
— У вас нет ощущения, что Вторая мировая война нас как бы догнала, что наркоз отошел — и стало ясно, что после этого все-таки жить нельзя? Что человечество как бы не сдало экзамен?
— Нет, просто выяснилось, что те соглашения человечества, которые оно тогда приняло, по итогам войны, — что они временные. Отчасти потому, что обе системы — капиталистическая и социалистическая — еще длились. Сейчас происходит переосознание. Сейчас у нас есть новые способы реконструкции, так сказать, всей даты — всего события в абсолютной полноте. Есть показания всех свидетелей, с помощью компьютера можно до миллиметра установить все точки, где происходили расстрелы, по положениям теней на фото — время до секунды… Практически все события ХХ века исчерпывающе документированы. Так что мы вступаем во время установления полной правды о том, как все было; правды абсолютно объективной, не интерпретированной историками. Нас ждет откровение невероятной силы, то есть мы, например, действительно узнаем всю правду о войне. Для многих она будет шоком. Форензика — она же компьютерная криминалистика — сегодня главный инструмент в раскрытии преступлений; мы в мемориале начинаем применять ее к преступлениям военным. У нас воедино сведены миллионы документов, которые будут храниться и анализироваться здесь, в главном корпусе музея в виде огромного кургана, в куполе площадью девять тысяч квадратных метров. И вот когда будет написана такая история войны — потребность в идеологических интерпретациях отпадет вообще.
— Везде, кроме России. В России этого не будет никогда.
— Потому что она перестанет существовать?
— Потому что она от этого закроется.
— Ну может быть. Я хочу думать иначе.
— Я тоже хочу, но вижу, что страна закукливается.
— Однако вы туда возвращаетесь.
— Не знаю, надолго ли. Может получиться большая Северная Корея.
— Скорее Иран. Такое мнение есть. Разделять его я бы не хотел. Понимаете, в чем странность — внутри Россия очень комфортна. Я там живу подолгу, с родителями. И внутри там вполне удобно, даже уютно, но нельзя работать, нельзя вообще. Я не думаю, что все волшебные люди, живущие там, готовы уехать.
— Как, по-вашему, почему такой сыр-бор вокруг фильма Лозницы «Бабий Яр. Контекст»?
— Потому что Лозница — великий документалист и вытащил оттуда самую актуальную историю. Он десять лет работает над фильмом о Бабьем Яре, художественным. Есть потрясающий сценарий. Это будет строгая, серьезная картина, стилизованная под хронику — и с элементами хроники.
Я думаю, что Бабий Яр — вообще самая актуальная история для сегодняшней Украины… может быть, самая актуальная после войны с Россией.
Да и война с Россией на первом месте не для всех — немного же, в конце концов, таких людей, которые уверены, что надо дойти до Кремля и что хороший русский — мертвый русский… Это вообще вопрос о человеке, способен ли он оставаться собой в месиве. О средневековье, которое длится. В каком-то смысле это вопрос Германа из «Трудно быть богом». И кстати, вокруг Лозницы здесь тоже происходит абсолютный Оруэлл. Не Гоголь, не Булгаков — в ассоциации с персонажами которого тут играют в каждом застолье, — а Оруэлл. И в этом смысле Бабий Яр — спасительный проект, он дает надежду. Там люди могут увидеть себя со стороны… и понять. Может быть, поэтому первым объектом мемориала стало «Зеркальное поле» — гигантский сферот, созданный художником «Дау» Денисом Шибановым и звукорежиссером «Дау» Максимом Демиденко. Это металлическое зеркальное поле, в котором отражается небо, и десять зеркальных колонн, в которых пробиты отверстия именно того калибра… какого были те пули… чтобы каждый, видя себя, видел на себе и эти пробоины. И круглосуточно идет звук — из сотен динамиков звучат имена погибших на разные голоса, растворенные в различных молитвенных пениях, звуках и шумах исчезнувшего мира.
— Как вы думаете, Украина может стать… некоей позитивной альтернативой России?
— Во всяком случае, должна. Я вкладываюсь в том числе и в это.
— Когда вы отойдете от проекта «Бабий Яр»?
— Когда пойму, что могу отойти, что он может функционировать без меня. Пока мы разрабатываем проект и план на первые сто лет.
— И все эти сто лет он будет так же актуален?
— Принципиальное отличие этого комплекса — от Яд-Вашема, скажем, — в том, что Яд-Вашем там содержится, и тема Холокоста там содержится, но этим все не ограничивается. Понимаете, это музей того, как этих людей убили, сожгли, перемололи, как они стали прахом, как из этого праха, из коллективного тела выросли потом деревья… можно сказать, что и вся эта глина, которой их заливали, и парк, который поверх нее разбили, — все это мемориал. Мемориал человечеству, а не только Холокосту или Киеву. Кстати, вы знаете такого человека — Патрика Дюбуа?
— Это такой католик французский?
— Да, исследователь массовых убийств, Холокоста, автор термина «Холокост от пуль» — он нам собирается предоставить весь свой гигантский архив, тысячи интервью свидетелей, документов и артефактов. Совместно с ним мы планируем создать в мемориале институт изучения истории массового уничтожения, потому что выяснилось, что несколько акций по массовому уничтожению людей произошло точно по сценарию Бабьего Яра. Все этапы расчеловечивания жертв и убийц. Та же технология, те же интервалы. Мы не хотим и не можем ограничиваться темой Бабьего Яра, потому что все продолжается. В разных масштабах, но по всему миру.
— Вы не смогли хотя бы для себя ответить на вопрос, почему именно евреи становились объектом такого уничтожения дольше и чаще всего?
— Я думал, вы для себя это нашли.
— Нет, конечно.
— Я думаю, дело не только в еврействе, поскольку прицельное уничтожение, например, душевнобольных — тоже практика фашизма, и началось все с того, что, едва войдя в Киев, нацисты расстреляли всех пациентов этой психиатрической лечебницы, уже тогда существовавшей. 725 человек.
— Тогда понятно, где был в это время Бог. Его расстреляли в той первой партии. Где он еще мог быть в это время, как не в самой большой лечебнице для душевнобольных?
— Ну напишите такой сюжет… Вообще же человеческая природа хоть и не меняется к лучшему, но далеко не столь рациональна, как хотелось бы гуманистам.
— Можно надеяться, что вы вернетесь в кино?
— Я не уходил, на мне долги — «Дау» не закончен, если может быть закончен. Первый фильм, «фильм-матка» — вполне традиционный байопик, — сейчас смонтирован, но в нем десять часов. Должно быть три-четыре. Он выйдет на экраны — если еще будут экраны — в 2023 году. И потом, главным результатом проекта мне все-таки видится цифровая платформа и книга, а они еще не готовы.
— Вы смотрели новый фильм отца?
— «Нос»? Конечно.
— Вы не могли бы на него повлиять в одном отношении… мне самому как-то страшно ему задавать этот вопрос. Но вот он показывает всех этих великих авангардистов — Мейерхольда, Шостаковича, Маяковского, — а породила-то их революция; он не хочет несколько, что ли, пересмотреть отношение к ней?
— То есть вы мне советуете повлиять на отца, чтобы он полюбил советскую власть? Понимаете, она, может, и породила… но только все поколения нашей семьи советскую власть очень сильно не любили, я тоже, и вряд ли тут что-то можно изменить. В Париже, в Испании, в Штатах тоже был великий авангард, а советской власти не было. Пикассо был, а РАППа не было. Авангард — не порождение русской революции, скорей уж наоборот.
— Но ведь в вашей же «Дегенерации» средневековье догнало и разрушило Институт, как оно и случилось в жизни. Все-таки советская шарашка лучше средневековья.
— Но поймите, она не могла иначе закончиться. Если случилась «Дегенерация» — а она и в жизни случилась — значит, в природе Института это уже было заложено. Важно, что еще есть один фильм, который еще не вышел, — «Регенерация». Герои этого фильма проходят через опыт аяуаски — обряд своеобразной репетиции смерти и обновления.
— Меня всегда поражают люди, окружающие вас, — главным образом молодежь, искренне преданная проекту. Как вы их отбираете?
— Сами как-то отбираются, надо говорить с людьми — тогда этот слой образуется сам собой. Начинаем мы всегда с создания штаб-квартиры: здесь, в Киеве, это два этажа, на одном обитал Амвросий Бучма, на другом художник Николай Глущенко. Интерьеры все аутентичные, обстановку мы подбираем такую же — довоенную и военную. Книги. А потом постепенно собираются и люди, и возникает ядро.
— А где ваша собственная квартира?
— Собственной квартиры у меня нет нигде.