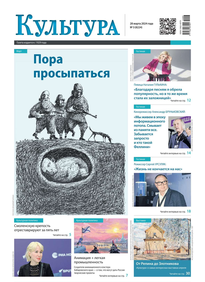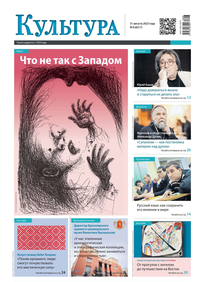Шукшинские юбилеи ходят парами. 25 июля — 90 лет со дня рождения, 2 октября (1974-й; Василий Макарович скоропостижно скончался на теплоходе «Дунай» в финале съемок «Они сражались за Родину») — 45 со дня смерти. Словно некая могущественная потусторонняя сила, озаботившись нумерологией и цифровой семиотикой, к чему Шукшин был совершенно равнодушен, упаковала короткую, но невероятно насыщенную жизнь в ровные сроки и четкие координаты. Разместив по соседству с поэтическими кумирами России: Владимир Высоцкий ушел из жизни 25 июля, Сергей Есенин родился 3 октября.
Шукшин, быть может, самый загадочный из русских художников ХХ века, и в данном утверждении нет никакой повышенной экзальтации и абстракции. Загадка эта огромна — она вмещает и все сделанное им в кино и литературе, и конструирование его возможного дальнейшего пути в стране, искусстве и политике. Сколь бы странными ни казались подобные штудии, к Шукшину они почему-то всегда применимы, и споры о не случившемся будущем не смолкают почти полвека. История, да, сослагательного наклонения не знает, но для художников масштаба Василия Макаровича оно — естественный способ посмертного существования.
Маркером обычно служит кровавое противостояние октября 1993 года — дескать, на какой стороне оказался бы Шукшин: на баррикадах у Белого дома, вместе с пожизненным товарищем Василием Беловым, или среди подписантов печально знаменитого писательского письма «Раздавите гадину!», призывавшего к репрессиям, вместе с Виктором Астафьевым и Беллой Ахмадулиной. Ее Василий Макарович снял в своем режиссерском дебюте «Живет такой парень».
Кстати, роман Шукшина с Ахмадулиной сегодня может быть воспринят не только в качестве богемной интрижки перспективного режиссера, родом из глубинки, с модной столичной штучкой-поэтессой и знаком шукшинской мужской харизмы. Но и свидетельством веселого анархизма ранних 60-х, взаимного притяжения либеральной интеллигенции и «глубинного народа». Термина такого, разумеется, тогда еще не существовало, но Шукшин был и воплощал его самым убедительным образом. Коротко соединились, чтобы надолго (а возможно, и окончательно) разойтись. Отмечу, что в дальнейшем Василий Макарович подобную публику и не проклинал, и не жаловал — он ее просто перестал замечать. Расколы и противостояния, зафиксированные им, шли на других, куда более глубоких, уровнях.
Мне представляется, что октябрьское противостояние, конечно, не оставило бы его равнодушным, но самой предсказуемой шукшинской реакцией стало бы пожелание чумы на оба враждующих дома. Ельцинские реформаторы (так напоминавшие его «энергичных людей») и сторонники «красного реванша» были ему одинаково чужды — член КПСС с 1955 года и крестьянский анархист в душе и творчестве, Василий Шукшин, игравший с Советской властью в замысловатые и эффективные игры, рано сформировался и ушел убежденным сторонником «воли» в ее казачьем понимании: как образа жизни и нравственной категории. Когда он бежал из алтайской деревни от молодой жены и сельской школы, где директорствовал, в столичный ВГИК — это был не столько рывок за карьерой и славой, сколько его собственный побег на разинский Дон. Казачьей окраиной стали для него кино и литература, Шукшин прекрасно понимал, что путь этот — уже не коллективный, а сугубо индивидуальный.
Василий Макарович здесь, одиноким бойцом, довоевывал Гражданскую войну за тогдашних народных вождей «третьего пути» с их крестьянской и анархической правдой и волей — Нестора Махно и Александра Антонова. Василий Белов вспоминал, что в их доверительных разговорах с Шукшиным они нередко обсуждали «антоновщину» и Антонова.
Поэтому до сих пор популярный сюжет «Шукшин и Советская власть» представляется мне не то чтобы лишним, но каким-то односторонним и недостаточным... Впрочем, краткий комментарий здесь необходим. Писатель Алексей Варламов, автор биографии Василия Шукшина, задается известным количеством вопросов и недоумений:
«Перечитывая сегодня Шукшина, поражаешься тому, как этому писателю, современнику Солженицына, как раз в пору жесточайшей травли последнего, было позволено в условиях советской цензуры и идеологических ограничений выразить суть своего времени, получить при жизни все возможные почести и награды, ни в чем не слукавив и не пойдя ни на какой компромисс. Это ведь тоже было своего рода бодание теленка с дубом, противостояние официозу и лжи, и тоже абсолютная победа, когда с волевой личностью ничего сделать не могли».
Прежде всего, смущает констатация некой второсортности Шукшина относительно Солженицына, которой, разумеется, не было. Сегодня особенно заметно, насколько разница масштабов тут мнима и порождена вполне архаичным идеологическим дискурсом. Если по уровню сказанной правды и высказанной боли классики шли рядом (а мне вот кажется, что Шукшин значительно выше), почему преследования и изгнание одного писателя должны возвышать его над другим, чья творческая судьба сложилась якобы легко? С каких это пор власть, даже Советская, является арбитром в художественных состязаниях?
Просто у Шукшина и Солженицына разные писательские стратегии. Достаточно положить рядом «Матрёнин двор» и шукшинский эпос в десятках рассказов из жизни сельских оригиналов. Новелла Александра Исаевича прямолинейна и дидактична, наследует скучным урокам народнической публицистики, литературным передвижникам вроде Глеба Успенского. Проза Шукшина — карнавальна и авангардна при всей традиционности (а в поздних вещах — и репортажности) формы. Конечно, это явления практически полярные, а пресловутая лояльность здесь вовсе ни при чем.
Вообще, эстетическая продвинутость Василия Макаровича поражает: в знаменитом рассказе «Верую!» на пяти страничках он дает пару мощных характеров (философствующий и пляшущий поп; мужичок, в тоске и по пьяни разоблачающий себя как «научного Власова»), вкрапления обэриутской поэтики абсурда:
«Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях — клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.
— Мне столько не надо. Мне надо три хороших — жирных.
— Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам — каких».
А главное — на таком крошечном объеме Шукшин, устами буйного попа, проповедует гностическую теорию о диалектике добра и зла; у Булгакова на нечто философски близкое уходит едва ли не половина знаменитого романа... Кстати, Василий Макарович знал и почитал Михаила Афанасьевича — возьмите, например, повесть-сказку «До третьих петухов» (в авторской версии — «Ванька, смотри!»), полную соответствующих аллюзий.
Или вспомним бессмертную «Калину красную». Мне всегда этот фильм казался странноватым для своей эпохи, эдаким слоеным пирогом, предвосхитившим постмодерн, где выдающийся результат обеспечивает нелинейный, авангардистский монтаж и сильнейшая нюансировка, нежели лобовое моралите.
Так, позднейший — и по-своему замечательный — фильм «4» Ильи Хржановского по сценарию Владимира Сорокина вышел из двух эпизодов «Калины красной», поданных как документальные: застолья с пением в доме Байкаловых и пронзительной сцены со старушкой — матерью Егора.
Настоящий авангардизм — на фоне пасторального сюжета, несколько архаичного даже для времен расцвета «деревенской прозы». Возникает шальная мысль, что «Калиной» вдохновлялся не только Райнер Вернер Фассбиндер, открыто признававшийся в любви к Шукшину, но феноменально насмотренный Квентин Тарантино в «Криминальном чтиве» — сравним сходство сюжета и особенно мотивов...
Возвращаясь же к Советской власти, можно сказать, что оперировала она в те времена скорее не идеологией, а психологией. Прекрасно понимая, что Солженицын, тогда только складывавший свою будущую идеологию, — «против», а Шукшин, «пришедший дать волю», — «за». И технологией — ценила совершенство формы (при ее желательной простоте). Уважала хороших работников, умных, усталых профи. При условии, что они не станут повсеместно демонстрировать надрыв и кислое выражение физиономии.
Вот потому Шукшину и разрешалось больше, хотя и не декларировалось, какой он тут особенный. Что, естественно, никак не отменяло его «разинской» идеологии «третьего пути».
...Когда исчерпываются сюжеты о не случившемся политическом будущем Василия Макаровича, как-то не находится охотников говорить о литературной (и в меньшей степени — кинематографической) эволюции Шукшина, проживи он хотя бы на десяток лет больше. А ведь она обещала шедевры и прорывы, причем, судя по исходникам, при всем национальном своеобразии, магистрального, мирового значения.
Между тем наследство Шукшина отнюдь не промотано, а, пожалуй, приумножено. Писатели, которых принято не совсем точно называть «новыми реалистами», ведут генеалогию из 20-х годов, непосредственно через Шукшина. Установка на острый сюжет, напряженное действие, с героями — поэтами и авантюристами. Экспрессионистская поэтика, позволяющая укрупнять лица и детали и размывать, затуманивать фон. Боль и надрыв. Несомненный патриотизм — как в художественном, так и мировоззренческом поле. А к юбилею на федеральном канале был показан документальный фильм «Я пришел дать вам волю», российское телевидение в кои-то веки помянуло великого писателя не рассказами о его личных злоключениях, а по делу, достойно.
Продолжается Шукшин, продолжается его сильнейшая воля.