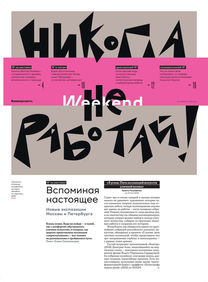11 декабря исполнилось бы 90 лет Юрию Витальевичу Мамлееву, лидеру советского эзотерического подполья, исследователю темных бездн человеческой души, ставшему затем самым странным патриотическим мыслителем постсоветской эпохи. Его поиски мистической Вечной России, на первый взгляд, имеют мало общего с мрачными эскападами «Шатунов», но в них завершается путешествие к границам бездны, начатое Мамлеевым в эпоху оттепели и во многом благодаря ей.
Когда книги Мамлеева начали выходить на родине, у него сложилась двусмысленная репутация. С одной стороны — живой классик, мэтр. С другой — писатель не для всех, допускающий только два отношения: преданный культ или недоуменное отторжение.
В таком колебании между маргинальностью и каноном он — сосед Эдуарда Лимонова. Они все время существовали где-то рядом: богемное подполье 1960-х, маета эмиграции 1970–1980-х, политическая и эстетическая оппозиция либеральному мейнстриму 1990–2000-х. Наконец — невозможная роль признанного нонконформиста, старика-террибля. Одновременно с тем сложно найти более непохожих писателей. Погруженный в политические и литературные дрязги, живущий в суете мира Лимонов и презирающий мир, не верящий в его славу, стремящийся в запредельное Мамлеев. Воины видимой и невидимой брани, вождь и гуру, одинаково величественные и нелепые — каждый по-своему пытающиеся победить современность и выскочить в вечность. Они могли бы быть персонажами романа, который, впрочем, ни один из них не смог бы написать, потому что второй герой выглядел бы слишком мелко.
Мамлеев умер в 2015 году, Лимонов — на пять лет позже. Смерть окончательно превратила обоих в классиков. Их собрания даже выходят сейчас в одной серии. Мамлеева вообще издают много. Заново напечатаны почти все романы, большинство рассказов, сборники эссе и стихов. Когда главные тексты легко доступны, легко разглядеть в монолитном, на первый взгляд, мамлеевском творчестве разрыв. С одной стороны — «Шатуны» и поразительные рассказы 1950–1970-х (к ним примыкает небольшое количество эмигрантских вещей). С другой — тот Мамлеев, что начинается в 1990-х,— многотомное приложение к собственному творчеству советской эпохи. Только изредка в поздних книгах встает в полный рост бредовый гений Мамлеева 1960-х. Задачей его письма было высечь искру нездешнего, но в новое время что-то препятствовало этому. Творчество Мамлеева могло в полной мере состояться только в очень определенных условиях.
Подполье и культ
Среди авторов советской неподцензурной литературы были те, кто ощущал подполье как муку — невозможность выхода к желанному читателю, те, кого вполне удовлетворяла независимость и кружковая теснота, те, кто принимал правила игры и делал существование в андерграунде частью собственного мифа или конструктивной основой письма. Но для Мамлеева — больше, чем для кого-либо другого,— подполье было единственно возможной средой для творчества.
Понять природу его прозы можно, только разобрав ее, скажем так, прагматику (при всей неуместности этого слова в мамлеевском мире). Это тексты скорее не для глаза, а для уха. Есть много свидетельств того, как Мамлеев читал свои рассказы в квартирах и мастерских знакомых, какое сокрушительное воздействие это чтение производило: люди впадали в истерику, целовали автору руки.
Сама его манера заточена на слушание. Это каскад звучных эффектов — аттракционов, задача которых взбудоражить чувства до предела. Среди них — типичные его дикие сравнения, при внимательном чтении иногда выглядящие чистой несуразицей (вот наугад из «Шатунов»: Федор ходит вокруг Анны «как парализованное привидение вокруг куска мяса»). Эти истории про изуверские убийства, извращения и превращения, влюбленных упырей и коммунальных божков — не литературные произведения в привычном смысле, а скорее партитуры для своего рода мистерии, посвящения в избранные. Шок, ступор, отвращение, как бывает в инициатической практике,— ступени, которые проходит посвящаемый,— уровни духовного нигредо.
Как в любом эзотерическом культе — а Мамлеев был лидером своего рода культа,— здесь существовали круги посвященных. Широкий — вся московская подпольная богема. Узкий — знаменитый Южинский кружок, компания поэтов, художников и философов, собиравшихся в мамлеевской коммуналке в Южинском (сейчас — Большой Палашевский) переулке. Из его постоянных участников самыми известными впоследствии стали поэт и переводчик, великолепный декадент Евгений Головин и проповедник радикального ислама Гейдар Джемаль. Помимо них, завсегдатаями Южинского в разное время были люди, которых сейчас сложно представить вместе — например, Владимир Буковский и Александр Проханов. Круг этот сформировался вокруг ритуала мамлеевских чтений — из самых восприимчивых и верных слушателей, готовых вновь и вновь припадать к страшному источнику. О южинцах ходили жутковатые слухи, но, судя по всему, ничего выходящего за рамки обычного богемного поведения — бытовой эксцентрики, надрывного пьянства и посиделок с оккультным оттенком — они не делали. Важен был миф о круге избранных, который во многом и создавали мамлеевские тексты.
Проза и тайна
При первом знакомстве рассказы и романы Мамлеева часто кажутся необъяснимыми — будто бы вырванными из всякого литературного контекста. На самом деле он никогда не скрывал их генеалогии. Ее легко описать.
Классический русский роман и прежде всего Достоевский. Речь не только об имитации стиля и сюжетных схем, но также о внутреннем устройстве: герои, одержимые великими идеями, пробуют реальность на прочность, мир сталкивается с мировоззрением, и это столкновение ведет к катастрофе.
Проза русского символизма — Белый, Сологуб, Ремизов. Видимая реальность как покрывало майи, сеть гротескных узоров, скрывающая реальность подлинную и страшную, доступную немногим. Из символизма же — понимание литературного текста как ритуального артефакта, оказывающего на мир магическое воздействие.
Психопатология. Отец Мамлеева был психиатром, сам он отлично ориентировался в этой области, читал много профессиональной литературы, часто описывал реальные случаи и признавался, что использует психиатрию так же, как Достоевский криминалистику.
Наконец, метафизика — синтез классической европейской философии, античной мифологии, средневековой мистики, христианского сектантства, индуизма, суфизма, гностицизма, модернистского традиционализма Генона и Эволы, духовидчества Даниила Андреева и прочих эзотерических учений.
Все эти компоненты, иногда будто бы несовместимые друг с другом (как психиатрия и индуизм), служат одной цели — уловлению тайны. Это тайна человека и нечеловеческого, духа и тела, сообщества и одиночества, абсолютного дна и немыслимой выси, и главное — тайна смерти и того, что лежит за ее пределом.
В тайноведении Мамлеева есть принцип — соединение сакрального знания, высшей мудрости, и абсурда, не поддающейся разуму нелепости. Онелепливание наличного бытия (его, сказали бы философы, негация) — главный в мамлеевском мире путь к истине. Так, просветленный философ Андрей Никитич из «Шатунов», переживая ужас перед скорой смертью, обретает идентичность мертвой птицы — перерождается в не сознающий себя «куротруп», и именно в этом своем состоянии он близок к потустороннему.
Мудрость и бред
Мамлеев работает с тайной как эзотерик — понимает ее как знание, открываемое при помощи определенных практик — посвящения, медитации, чтения древних книг, усердного самостроительства личности и ее нещадного саморазрушения.
В эзотерике есть неразрешимая проблема, скрытая тщета: тайна открытая — уже не есть тайна. Она обессмысливает саму сущность эзотерического знания. Поэтому любая тайна обязана быть лишь вратами к тайне еще большей, и это восхождение (или нисхождение) никогда не должно прерываться. В итоге мистический опыт легко превращается в механическую процедуру и постепенно выхолащивается, автоматизируется.
Этот печальный закон — моторчик всего мамлеевского творчества. В своих текстах, ранних и поздних, он одержим одной идеей: чем-то потусторонним по отношению к самому потустороннему, более смертельным, чем смерть, выпадающим из-под власти Абсолюта — апофатической тайной, о которой невозможно сказать решительно ничего и которая сделает все остальные божественные и дьявольские откровения жалкими побрякушками. Из-за этой одержимости в его письме был с самого начала заложен самообесценивающий, автопародический механизм. Скрещение мудрости и бреда должно было не то чтобы уравновесить, но как бы разыграть его.
В романе «Шатуны» — вершине или, наоборот, центральной яме мамлеевского творчества — это скрещение раскрывается в полную силу. Его герои — мистик Падов, мечтающий уничтожить собственное «я» и уступить место непознаваемой вещи в себе, декадентка Анна, бредящая загробными несуразицами, маньяк Федор, убивающий тела, чтобы добраться до душ, шизоэротоманка Клавуша, сожительствующая с гусями, пожирающий грибы с собственного тела Петенька, совокупляющийся с зеркалом Извицкий — все они каждый по-своему жаждут выбраться из любой логики, в том числе логики духовной.
При первом прочтении кошмары и курьезы этой книги, ее мрачный экстаз заслоняют основное содержание — как, впрочем, и должно быть с эзотерическим текстом. Если присмотреться к нему лучше, видно, что по своему устройству это символистский роман в духе «Серебряного голубя» Андрея Белого. Его сюжет — история о попытке «великого синтеза» между интеллигентским мистицизмом и народным мракобесием — той самой встрече мудрости и бреда, способной расшатать мироздание и открыть дверь в запредельное.
Люди мамлеевского круга часто говорили, что роман этот — произведение едва ли не документальное, что в символической форме там описаны искания южинской компании. И действительно, особое обаяние «Шатунов» в том, что это одновременно мрачная карикатура на эзотерические поиски и их апология — изображение вывернуто-идеального мира, своего рода параутопия.
СССР и Запад
Есть известный парадокс: расцвет южинского кружка и создание лучших текстов Мамлеева приходятся на оттепельные годы — самый оптимистичный период советской эпохи, когда в культуре не только официальной, но и подпольной доминировала совсем другая нота.
На самом деле послесталинский СССР был идеальным фоном для того кромешного возрождения духа, что практиковала южинская компания. Живая память о войне и репрессиях — общество, пережившее катастрофу и еще не вошедшее в тусклую норму. Атмосфера духовного подъема, представлявшая в своей официальной версии точку отталкивания для нонконформистов. Относительная либерализация, безопасность любых поисков и практик, если они носили непубличный и неполитический характер. Масса свободного времени, возможность стесненного, но более или менее благополучного существования без заботы о завтрашнем дне. Доступность разнообразной литературы, постепенное формирование сети интеллектуалов в курилке Ленинки и других подобных местах. Наконец, далеко не последний фактор — дешевый общепит, распространившиеся при Хрущеве кафе и пивные, по которым кочуют мамлеевские герои, разыгрывая за грязными столиками свои метафизические драмы.
Отказываясь от амбиций в официальной культуре, люди 1950–1960-х могли чувствовать себя аристократами духа, избавленными от бытовой суеты, невидимо возвышающимися над мелочной жизнью обычных людей — «грибов», по выражению героев «Шатунов». Последними, кто практиковал в советской культуре подобный экзистенциальный аристократизм, были обэриуты, но у тех были другие ставки игры — реальная угроза гибели, дендизм на краю могилы. У художников оттепельной эпохи такой угрозы не было, так что в бездну можно было смотреть расслабленно — уютно чаевничать со смертью.
Уехав в 1974 году в эмиграцию, Мамлеев не обнаружил там ничего похожего. В отличие от многих литературных эмигрантов, он был хорошо устроен — быстро признан большим писателем, преподавал, нашел свою среду, книги выходили и по-русски, и в переводах. Тем не менее Запад был огромным разочарованием: ценой либеральных свобод оказалась рациональная цивилизация, в которой духовные поиски и культурные эксперименты грубо очерчены рыночной прагматикой. Документ этого разочарования — цикл «Американские рассказы». В нем Запад изображен настоящим адом на земле, где поклоняющиеся долларам бывшие люди косяками вырождаются в ничтожных демонов.
Россия и Рассея
В начале 1990-х Мамлеев, один из первых среди бывших эмигрантов, вернулся в Россию. Однако постсоветский мир с его диким капитализмом и циничным постмодерном мало напоминал располагающее к метафизике мрачноватое спокойствие позднесоветской эпохи. Доступ к свободной печати и публичным выступлениям был и подарком, и проклятием. Подполья больше не было. Еще до мамлеевского отъезда снесли его знаменитый дом. Впоследствии он не раз рассказывал о последней южинской посиделке — уже на развалинах. Возвращение к старым временам было невозможно.
Невозможна была и сама тональность текстов 1960-х. Мамлеев упорно пытался воскресить ее, и потому писал гораздо больше, чем до эмиграции. Его поздние романы и рассказы навязчиво повторяют одни и те же коллизии, выводят похожих как две капли воды монстров и гениев. В каждом разыгрываются ужасные метаморфозы, звучат грозные пророчества, но все они кажутся блеклым эхом былой славы. От этих текстов можно получать большое удовольствие — но удовольствие не трепета, а уютной беседы, во время которой добрый старик вновь рассказывает давно знакомые страшные истории.
Однако поздний Мамлеев не сводится к попыткам повторно войти в старые темные воды. На рубеже 1980-х и 1990-х он — неожиданно для людей, видевших в авторе «Шатунов» закоренелого нигилиста,— обращается к патриотическим идеям и становится, наверное, самым странным правым мыслителем постсоветской эпохи. Здесь Мамлеев вновь пересекается с Лимоновым — и вновь радикальным образом расходится с ним. Если национал-большевизм был руководством к немедленному действию, то мамлеевская «Русская доктрина» была эзотерическим учением. Из нее нельзя было сделать никаких политических выводов, но для Мамлеева — в отличие от многих его друзей, особенно Джемаля и Александра Дугина, главной звезды младшего поколения южинцев,— политика всегда была делом более или менее презренным.
Россия Мамлеева — любимица бездны, территория высшего метафизического смещения, коллективного выхода за пределы человеческого, обретающая место на карте планеты и разрывающая эту карту в клочья. Самое причудливое воплощение эти идеи получают в лучшей его поздней вещи — толком не замеченной из-за чрезмерной даже по мамлеевским меркам странности повести «Наедине с Россией». Это — уже почти классическая утопия: молодой философ Арсений Русанов попадает из России начала XXI века в фантастическую страну Рассею. Там пьют чай из самоваров, читают Есенина, ведут разговоры о последних вопросах, нелепо вывихнута логика самых обыденных поступков — все как-то не по-людски. То есть по-русски. Однако страдающая Россия и несуразно-прекрасная Рассея — лишь две ипостаси одной незримой сущности, России Вечной. Однажды она откроет себя, и тогда наступит новая, непредставимая еще русская эра.
Как часто бывает с гениями мрака, Мамлеев мечтал написать свой второй том «Мертвых душ», нечто вроде антитезы «Шатунам», и всякий раз терпел поражение. Он вводил в романы положительных персонажей, но все они выглядели на редкость неубедительно. Повесть «Наедине с Россией» и трактат «Россия Вечная», идеи которого она иллюстрирует,— его самый дерзновенный рывок к этой цели — светлый бред, оттеняющий темный, мечта о Южинском переулке размером с огромную неземную страну — о мире, где наконец смыкаются подполье и небеса.